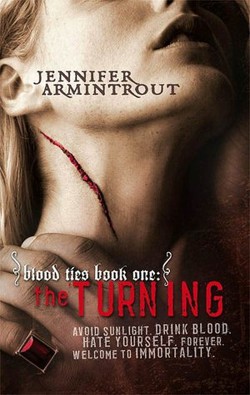Песни пьющих

Песни пьющих читать книгу онлайн
Ежи Пильх (p. 1952) — один из самых популярных современных польских писателей автор книг «Список блудниц» (Spis cudzo?oznic, 1993), «Монолог из норы» (Monolog z lisiej jamy, 1996), «Тысяча спокойных городов» (Tysi?c spokojnych miast,1997), «Безвозвратно утраченная леворукость» (Bezpowrotnie utracona lewor?czno??, 1998), а также нескольких сборников фельетонов и эссе. За роман «Песни пьющих» (Pod mocnym anio?em, 2000) Ежи Пильх удостоен самой престижной польской литературной премии «Ника».
«Песни пьющих» — печальная и смешная, достоверно-реалистическая и одновременно гротескно-абсурдная исповедь горького пьяницы писателя Ежи П. Жизнь героя-автора и его сотоварищей, одолеваемых зеленым змием, поделена на неравные отрезки: пребывание дома, где они, большей частью безуспешно, пытаются вести нормальное, «трезвое» существование, и в клинике, где их лечат от алкоголизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Марианна прочла свое сочинение срывающимся голосом, поминутно утирая притворные, а может и настоящие, слезы: всеми доступными способами она давала понять, что это ее обокрали, что это у нее Иоанна все списала.
— Мне очень обидно, — сказала она в заключение, — что у меня украли мою жизнь. Сейчас я услышу краденое и уж не знаю, переживу ли. — На этот раз голос ее задрожал совершенно непроизвольно, и она разрыдалась, теперь, вне всяких сомнений, по-настоящему.
Но ее противница повела себя аналогично.
— Это у меня своровали мою жизнь, — сказала Иоанна, — и пока я слушала, как тут самым нахальным образом читают про мою присвоенную жизнь, я думала, что умру на месте.
Свою алкогольную исповедь она читала точь-в-точь как Марианна, у нее точно так же срывался голос, она точно так же утирала притворные, а может и настоящие, слезы; больше того, словно для усугубления гротескной симметрии обе утирали слезы одинаковыми платочками с бледно-розовыми кружавчиками.
Версия Иоанны звучала примерно так:
«Было это в середине ноября 1997 года. Я проснулась в три часа ночи в жутком состоянии. Бодун был страшный, что неудивительно, так как накануне я целый день пила. Меня всю колотило, и я была мокрая от пота. Я знала, что денег у меня нисколько. Жила я тогда с сестрой и ее мужем и догадывалась, что у зятя есть деньги. Зять почти совсем не пил и всегда был при деньгах.
Осторожно, чтобы их не разбудить, я открыла дверь к ним в комнату и вошла на цыпочках. Зять аккуратно вешал одежду в шкаф, и я знала, что там и надо искать. Однако я боялась, что, когда буду открывать шкаф, дверца может заскрипеть, и тогда проснется или сестра, или зять, или оба разом проснутся. Но мне повезло, шкаф открылся бесшумно. В кармане одного из висящих пиджаков зятя я нащупала бумажник. Не вынимая бумажник из кармана, я вслепую вытащила купюру. Я не знала, какая это купюра, и боялась, что ее номинал окажется слишком низким. Однако, когда я вернулась в свою комнату и проверила, оказалось, что мне удалось вытащить целую сотню, что меня даже обрадовало, но и слегка напугало; денег, правда, у меня теперь было выше крыши, но одновременно возникало опасение, что зять заметит отсутствие настолько внушительной суммы. В растерянности я, однако, пребывала недолго, вариант вернуться к ним в комнату, положить обратно в зятев бумажник сотенную купюру и попытаться найти что-нибудь помельче я даже не рассматривала. Тихонько одевшись, я вышла из квартиры и на лифте спустилась на первый этаж — так уж совпало, что в нашей башне на первом этаже ночной магазин. Я вошла туда и купила шампанское. Поскольку терпеть уже было невмоготу и поскольку я боялась, что, когда стану открывать дома шампанское, пробка выстрелит и разбудит спящих домочадцев, бутылку я открыла у двери лифта. Мои опасения были напрасны: пробка не выстрелила. Я села в лифт и нажала все двенадцать кнопок, так как мы живем на двенадцатом этаже. Благодаря этому лифт поминутно останавливался, и я на протяжении всего долгого, прерываемого частыми остановками подъема пила шампанское. Но пила, наверно, чересчур жадно, потому что, когда лифт наконец дополз до двенадцатого этажа, оказалось, что шампанского в бутылке уже на донышке. Поскольку денег оставалось еще много, а выпитые пузырьки меня здорово разохотили, я решила прикупить спиртного про запас. Снова спустилась вниз и снова вошла в ночной магазин.
На этот раз я взяла две четвертинки белой. Одну я намеревалась спрятать на черный день, а вторую смешать с кока-колой, пол-литровую бутылку которой я тоже купила. По возвращении домой я продолжала соблюдать осторожность, но чувствовала себя гораздо свободнее. Часть кока-колы я выпила, часть вылила в раковину: я старалась так рассчитать, чтобы в бутылке осталась ровно половина, что мне полностью удалось. К оставшейся кока-коле я добавила четвертинку водки, чтобы казалось, будто я пью чистую колу. Пустую водочную бутылку спрятала за холодильник. Эта как бы кола, которую я собиралась поставить около своей диван-кровати, выглядела бледновато, но меня это не напрягало: зять был помешан на здоровом питании, не пил никаких газированных напитков и наверняка не знал толком, какая на вкус и на цвет настоящая кола. Сестры я не боялась, зная, что в случае чего она встанет на мою сторону или, по крайней мере, меня прикроет. Я легла и, отхлебывая из бутылки в минуты пробуждения, хорошо спала практически целую ночь. Утром, хотя оказалось, что зять не заметил ни отсутствия сотенной купюры, ни странноватого цвета колы, которой, впрочем, осталось всего ничего, сестра на ровном месте устроила мне скандал. Слова не сказав, я собралась и покинула этот негостеприимный дом. Я была спокойна, у меня оставалось еще около сорока злотых, а на дне сумки лежала четвертинка.
Не знаю, куда меня понесло, не знаю, долго ли продолжался запой, не знаю, как я здесь очутилась. Так или иначе, сейчас я изо всех сил хочу бросить пить».
К дискуссии, развернувшейся после выступления авторов и, вопреки ожиданиям, протекавшей довольно вяло, я прислушивался с замиранием сердца. Самый Неуловимый Террорист взял сторону Иоанны, Королева Красоты — Марианны. Сестра Виола подчеркивала, что списывание, во-первых, никоим образом не способствует излечению, а во-вторых, неэтично. Колумб Первооткрыватель утверждал, что списывать, конечно, плохо, но, быть может, и что-то хорошее в этом есть: авторы, хоть и неосознанно, руководствовались добрыми намерениями — не исключено, что они распознали поразительное сходство своих приключений и общность судеб. Доктор Гранада и психотерапевт Моисей, он же Я, Спиритус, молчали.
— В восемьдесят пятом году никак нельзя было купить пузырь за полсотни, — отозвался под конец сидевший у стены Дон Жуан Лопатка, тем самым вроде как предлагая разрешить спор в пользу Иоанны.
Я с замиранием сердца выслушал мнения собравшихся, но ничего не сказал, хотя должен был, безусловно должен был, просто был обязан, с какой стороны ни глянь, взять слово — ведь это я был автором обеих спорных работ.
Когда меня привезли в отделение для делирантов, на мне была провонявшая блевотиной рубашка и пригодные только для публичного сожжения в котельной брюки. При себе я не имел ни одного злотого, ни одной сигареты, у меня не было ни белья, ни мыла, ни зубной щетки, ничего. Однако, если не через неделю, то уж точно через две я начал обрастать разным добром. Теперь, по прошествии шести месяцев (за вычетом перерывов, после которых я сюда в беспамятстве возвращался), на мне элегантный, цвета травы спортивный костюм. В верхнем кармашке позвякивают пятаки, тумбочка завалена бананами, апельсинами, шоколадными конфетами и прочими лакомствами. Открывая ящик, я вижу поистине беспредельный запас сигарет. Каждая шоколадка, каждый пятак, каждая банка ананасового компота — эквивалент по крайней мере одной написанной мною делирантской исповеди или одного дневника чувств.
Когда по отделению разнеслась весть (а разнеслась она молниеносно или, скажем, со скоростью выпущенной из лука стрелы), что на гражданке я занимаюсь сочинительством, не слишком искусные по письменной части делиранты стали дружно обращаться ко мне за — небескорыстной, разумеется, — помощью. И я им помогал — с чистой, надо сказать, совестью. Я не столько за них писал, сколько переносил на бумагу их речи. (Конечно, бывали случаи, когда приходилось кое-что менять: в случае Самого Неуловимого Террориста, например, я вынужден был написать все от «а» до «я», — но, как правило, я писал под их бессознательную диктовку. Они рассказывали истории из своей жизни, я же, внося только мелкие стилистические поправки, практически слово в слово записывал все, что они говорили.) В конце концов, нет большого секрета — ни литературного, ни экзистенциального — в том, что говорить умеют все, а записывать свои речи способен далеко не каждый. Да, порой я искажал их чересчур гладкие фразы, добиваясь необходимой для правдоподобия шероховатости, но если подобная стилизация для кого-то что-то и значила, так этим человеком был я, а не они.