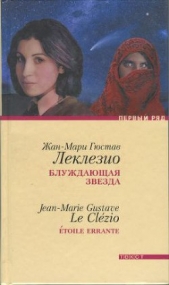Пасхальный детектив

Пасхальный детектив читать книгу онлайн
Маленькая повесть об одном загадочном спасении.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рита запуталась в бессвязных фрагментах жизни, словно разорвалась лента незнакомого фильма, смешались кадры, и она, пытаясь соединить их, переживает тот, что выпадает случайно: вот, она отдаётся чужому человеку, без страсти, любви и даже выгоды; вот — спешит на работу среди других москвичей, спускается в Метро, увлекаясь его ритмом, запахом, звуками: «Двери закрываются, следующая станция…» Но всё чаще среди роликов попадалась подрастающая Машка: то дёрганная, как в немом кино, то застывшая, как на фото…
Рита пыталась было понять, что происходит, но слабая мысль терялась в хаосе чувств. Вернее, она возникала, но была так печальна, что принять её не было сил, но печаль всё равно проникала в душу, заставляя страдать. Прежние представления о том, что хорошо и что плохо, смешались, как шашки в середине партии под рукой раздражённого жульничеством игрока.
Рита не могла понять в чём провинилась — за что наказана женской несчастливостью. Она была миловидна, нежна, хозяйственна, терпелива — и муж её, Машкин отец, и кандидат — оба наслаждались ею, но, как… вещью, нет хуже, потому что даже не хотели быть хозяевами: брали её, как чужую вещь воровали, пользовались и бросали. Она помнила, как нежно муж заботился о своей удочке, и как кандидат увлечённо начищал свои ботинки — их лица были… сострадающими — им было… по-человечески жаль свою вещь, а она? Чужая вещь, и её не жаль? Но если есть чужой, должен быть и свой? Чья она вещь? Кто её настоящий хозяин — добрый?
Муж был работягой и матерился, а кандидат вежливым, знал множество красивых слов, но и они не поднимали его над каким-то мёртвым безразличием к ней… Она — ничейная вещь… Долго не решалась признаться себе в этом, но потом купила водки и, выпив горькую, созналась, что пропала: брошена ли, потеряна… неизвестно кем. Хотела было руки на себя наложить, но вспомнила про Машку и решила постараться стать хорошей матерью — раз нет ей счастья, то будет жить хотя-бы… для ребёнка… — так возникло в её жизни второе великое заблуждение…
Рита не спала две ночи.
Последние годы они с дочкой вместе бегали то в церковь, то в синагогу, то к колдунам — жгли свечи, сидели, скрестив ноги и протянув ладони вверх в ожидании, когда из макушки пойдёт добрая энергия, вращали головами на лекциях телевизионных магов, заряжали воду… Заполнили они и анкеты во всех посольствах, где только удалось их достать, и, наконец, получили конверт с пластиковым окошечком. Счастливо разрыдались, обнявшись, выгнали Машкиного хахаля и засобирались, даря и выбрасывая свои вещи под сладкий «Голос Израиля», который зазывал, как сирены: «Милые, дорогие, приезжайте, мы вас любим…» — так пришло третье великое заблуждение.
Может быть, если бы Рита спала последние две ночи, то и не согласилась бы вот так — прямо из аэропорта — поехать к незнакомым людям. Но, уловив в приглашении слово «отдохнёте», представила дом в тенистом саду и кушетку, на которой можно будет прилечь, укрыться пледом, а там… видно будет: может быть, это те самые добрые хозяева, которых она искала так долго израильтяне… Рита задремала в такси с улыбкой и открыла глаза, когда машина уже подъехала к дому. Водитель помог донести вещи до двери, звякнул звонок…
Лее эти женщины не понравились сразу — в брюках (?!) — о чём только они думали, отправляясь на святой вечер в еврейскую семью? Колючие глаза, лица… какие-то… славянские, особенно у младшей, — хорошо ли их проверяли?
«Что ты думаешь, Хаим? Ай да соседка, удружила…»
Во-первых, их нужно переодеть, да и душ не помешает, но, всё равно… они просто не к столу… Господи, да они ни одного слова не знают на иврите! Ну да ладно, придумаем что-нибудь… Слава богу, первая семья удалась говорящая и готова услужить.
Рита ощутила панику от абсолютно чужеродных звуков, встретивших её на пороге небольшой, скромной прихожей. В её московской квартире всё было нарядней и уютней, чем здесь… и никакого сада… — обрушилась тошнота… Хозяева одеты, как в больнице — не лица, а белесые маски… всё враждебно…
Услышала русскую речь — словно Спаситель явился — кинулась к Оле: «Где мы?»
«То есть? — не поняла: Кто вы? Откуда?»
«Не знаю — из Москвы — нас привезли из аэропорта… я уснула в машине…»
«Господи — вздохнула Оля: Вы — в Иерусалиме, у вас есть здесь кто-нибудь?»
«Нет, вот, только вы…»
Оля внутренне отшатнулась… болезненно поморщилась.
«Зачем нас привезли сюда? Нам помогут? Что с нами будет? Давно ли вы сами здесь?»
«Пол-года»…
Машка всхлипнула, чувствуя себя чужой в длинной хозяйской юбке, не подходящей к её московской майке, и только было собралась пожалеть себя, как в комнату вошёл жуткий тип, похожий на чёрного козла с жидкой бородёнкой и крутозавитыми рожками, спускающимися из-под шляпы с полями. Он громко икнув, произнес: «Ик — скюзми, плииз». Машка почувствовала дрожание в ногах, горле и услышала истеричный смех — все в комнате повернулись к ней, глядя со страхом, козёл трагически ик-скьюзнул. Машка прислушалась — чужие, резкие звуки, кажется, исходили от неё — Машки.
Лея с ужасом подумала: «Припадочная…»
А Рита… Неведомое прежде чувство острой жалости к девочке: ничейной… её? — чувство, бесконечно большее, чем всё, что она испытывала прежде, потрясло своей ясностью и силой: «Прости, меня, Машка, дуру набитую, гадину-уу» — и в жизнь Риты впервые вошла любовь.
Ицик приехал из Нью-Йорка с отцом и был преисполнен самых приятных и радостных ожиданий в предвкушении Пасхальной Трапезы — традиционной игры в «Исход из Египта». Ему уже исполнилось двадцать лет, и он знал, что после вечерней молитвы в синагоге увидит свою невесту — их познакомят завтра, и Ицик был необычайно взволнован. Кажется, эта девушка — его далёкая кузина, и, возможно, он видел её прежде, но не помнит. Она живёт в Иерусалиме, и Ицик надеялся остаться здесь навсегда, покинув Нью-Йорк, которого боялся до икоты, что одолевала его в последнее время.
Отец Ицика — Дэвид — был сыном неудачливого, рано овдовевшего коммерсанта. Дэвид начал, было, учиться на инженера, но увлёкся весельем студенческой жизни. Парень был щедр, лёгок в общении и умел находить радость и забываться в ней. Он неплохо играл на гитаре и вскоре стал душой университетского театра, где они ставили мюзиклы — не хуже, чем на Бродвее. Дэвид даже стал подумывать о профессиональной сцене и два сезона перебивался в массовках Голливуда, но, то ли не было большого таланта, то ли настойчивости, но впервые в жизни — совсем рядом — замаячил призрак отцовской неудачи, и Дэвид испугался.
Попробовал было вернуться к учебникам по механике, но испытал острую неприязнь к густо-серым текстам, изуродованным формулами и схемами. И тут ему подвернулась забавная девочка, которая носила шляпку и длинную юбку, как Элиза в «Пигмалионе», но вела себя как… Дэвид даже не сразу смог определить как… — недотрога — вот… Она была застенчива, отстранена, краснела, когда Дэвид брал её за руку — всё это было удивительно и волновало необычайно.
Сара училась в колледже для преподавателей начальной школы, и Дэвид ожидал её после занятий и провожал домой, что, само по себе, было удивительно — как в спектакле из прошлого века… Ему даже хотелось сменить свои джинсы и майку на что-то, более подходящее к сюжету…
Сара удивилась, и, как ему показалась, обрадовалась, узнав, что Дэвид еврей. Сам он никогда не придавал этому значения, но, ощутив её интерес, пересмотрел папку с документами и письмами, которые достались ему от родителей. Там он нашел старые фото, где все были одеты с затейливой тщательностью, и брачное свидетельство, оформленное в синагоге. И теперь Дэвид вспомнил то, что было в его забытой памяти: фразы на странном языке, которые он, казалось, мог бы озвучить, если бы только немного отвлёкся от привычной артикуляции. Вспомнил и полумрак бедной комнаты, никелированую кровать с прохладными шарами у изголовья, запах лакричных лепёшек, маму и прикосновения её лёгких пальцев. Всё это показалось ему значительным, а его собственная богемная жизнь — пустой и вульгарной. И ещё Дэвид вспомнил, что ему перевалило за тридцать…