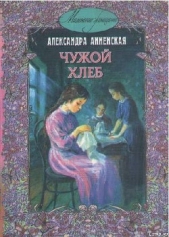Хлеб той зимы

Хлеб той зимы читать книгу онлайн
Автобиографическая повесть современной петербургской писательницы Эллы Фоняковой посвящена ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора. Написанный ярким, простым и сочным языком на основе собственных воспоминаний «Хлеб той зимы» — это честный рассказ без приукрашиваний и нагнетания кошмаров. Книга переведена на многие языки, в том числе вышла в Германии и США.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А барбариски? А подкидные шарики на длинных резинках? Уй-юй-юй-юй!
Естественно, я совсем ее не слушаюсь. И, проводив родителей, предвкушаю полную свободу.
Мы подолгу шепчемся в темной прихожей с Ирочкой. Она приносит вести из внешнего мира, поскольку чаще бывает во дворе и общается со своими одноклассниками. В городе много таинственных происшествий. Например, говорят, появились в изобилии немецкие шпионы и ракетчики.
— Видела ракеты? — спрашивает Ирочка.
Я не видела, но на всякий случай неопределенно киваю головой.
— Представляешь, он сидит на крыше и караулит. Услышит, немецкий самолет летит — и сразу запускает в небо из пистолета такую как бы электрическую лампочку. Зеленую или красную. Она подвешивается…
— Где подвешивается? На небе?
— А то где же?
— А на чем подвешивается? На звездочке?
— Что ты пристала? Не мешай рассказывать. Ну, эта лампочка горит и все вокруг освещает. И фашист видит, где чего бомбить.
— И нас с тобой может увидеть?
— Конечно! А еще этот ракетчик заводит патефон, чтобы не слышно было, как он выстреливает. Так что услышишь громкую музыку, знай: это ракетчик.
Буду знать.
…Малый проспект неширок. Высунувшись в форточку, подозрительным глазом осматриваю фасад дома напротив. Дом трехэтажный, и наши окна как раз на уровне его крыши. Про этот дом папа часто, с оттенком восхищения в голосе, говорит:
— Чистейший ампир!
И пространно объясняет мне, что ампир — это такой архитектурный стиль, который любили в прошлом веке за чистоту и благородство линий.
Дом и в самом деле красив — спокойный ряд окон, низкая, глубокая, затянутая чугунной решеткой, подворотня. (В Ленинграде подворотней называют каменный тоннель, прорезающий толщу дома и ведущий во двор). Но сейчас этот самый ампир кажется мне опасным пристанищем ракетчиков. Вот в чердачном окошке мелькнула какая-то тень. Шпион! И музыка, музыка играет! Я же слышу!
Скатываюсь с подоконника и опрометью, мимо растерявшейся тети Юли, кидаюсь в коридор.
— Ирка! Ирка! Я видела! Он — там! И патефон!
Не успевает тетя Юля опомниться, как мы с Ириной вылетаем на улицу, в несколько прыжков пересекаем Малый и устремляемся вверх по какой-то лестнице. Мелькают ящики с песком, огнетушители, синие ведра, прыскают в стороны испуганные кошки, и наконец — дверь на чердак! Теперь он от нас не уйдет! Дети могут поймать шпиона не хуже взрослых — нам же читали, мы в кино видели! Надо только поднять побольше шума, чтобы все сбежались на помощь. Дверь заперта. Закрылся изнутри! Проклятый шпион! Мы барабаним по доскам изо всех сил, отчаянно вопим и стучим ногами. Из квартир высыпают испуганные жильцы — ребятня, старики.
— Он на чердаке, с музыкой! Скорее!
…Самое удивительное, что к этой панике отнеслись серьезно. Пришла дворничиха, открыла чердак, и целая толпа тщательно обследовала все закоулки, а один паренек даже вылез на крышу и, козырьком приложив ладонь ко лбу, обозрел все пространство вокруг. Но ракетчика не нашли. Наверное, он все же успел удрать.
Закон Паганини
Из-под Нарвы возвращается папа — обросший черной бородой, осунувшийся и потому кажущийся еще более высоким, чем обычно. Ничего не рассказывает, пьет много чаю и однажды, чуть виновато, просит тетю Юлю:
— А что, если сварить немного чечевицы?
«Голодный он, что ли?» — думаю я с недоумением. Мне чувство голода пока еще неведомо, — тетя Юля по утрам продолжает насильно пичкать меня завтраком. Правда, ненавистного кефира уже нет, но появились какие-то противные серые лепешки.
— Хорошо, что я обойную муку вовремя припасла, — радуется тетя Юля.
— Никто не брал, а я взяла. Комнату хотела обоями оклеить. Как в воду глядела…
А мамы все нет. Я скучаю по ней. Папа сильно встревожен. Он уже звонил к ней в институт, но толку никакого не добился. Там — все на окопах. Придя с работы (папа — чтец, преподаватель художественного слова), он сразу же снимает с полки свою скрипку и начинает без конца выводить на ней один и тот же пассаж:
— И-и-и-и-и-ы-ы-ы-ы-у-у-у… И-и-и-и-ы-ы-ы-ы-у-у-у-у.
Меня берет тоска.
— Папа, хватит! Папочка, что-нибудь другое!
Но папа с непреклонным упрямством продолжает «пиликать». Я понимаю, что скрипка помогает ему не думать о том, что мамы все еще нет дома и, заткнув уши, покорно усаживаюсь на подоконник. Начинается бомбежка. Заканчивается бомбежка.
— И-и-и-и-ы-ы-ы-ы-у-у-у-у…
Ох, уж эта скрипка! Было время, когда папа играл по пять часов подряд — целыми вечерами. В конце второго часа у мамы решительно «пропадало настроение».
— Надо же и о других немного подумать, — раздраженно говорила она.
Но папа о «других» не думал. Он думал о том, чтобы открыть закон Паганини, тощего, косматого итальянца с дьявольским выражением узкого лица, портрет которого стоял у нас на письменном столе.
Когда папа рассказывал мне о Паганини, он всегда понижал голос до шепота, как будто нас кто-то собирался подслушивать:
— Это был величайший в мире скрипач. Он играл с такой потрясающей виртуозностью, что люди думали — ему помогает нечистая сила.
— Баба-яга?
— Чудачка! Но на самом деле ему никто не помогал. Просто, — тут папа совсем переходил на шепот, — у него был свой закон.
— Какой?
— Особый закон: как работать пальцами, держать смычок. И я его открою!
Я уже близок к этому. Мать твоя не верит, но я обязательно его открою! Вот увидишь.
А я и не сомневалась, что папа своего добьется. И от всей души желала ему успеха. Ладно, пусть уж пилит, если ему необходимо.
— И-и-и-и-ы-ы-ы-ы-у-у-у-у…
Вдруг папа опускает скрипку и говорит странную фразу:
— По закону Паганини она должна сегодня вернуться! Должна.
…Глубокой ночью раздается звонок. Мама! Вся в грязи, с опухшим лицом, с жалкими остатками пьексов на ногах, с израненными руками — нежные ладони покрыты кровоточащими волдырями. Мне не дают обнять ее, пока она не примет ванну. В ожидании я снова засыпаю.
— Немцы… Немцы… Немцы… — слышу я сквозь дрему мамин голос. — Всюду немцы… немцы… немцы…
Немцы
По-немецки я знаю только три слова — айн, цвай, драй. И хотя мне ведомо, что Германия — это большая страна, что в ней живут миллионы разных людей, мое представление о немцах складывается только из двух конкретных образов — Каспара Шлиха, героя детских книжек Вильгельма Буша о Максе и Морице, и одного нашего знакомого по фамилии Диц.
Каспар Шлих — толстый тугодум в надвинутой на самые глаза шляпе, с трубкой в зубах.
Владельцы этих собак, озорники Макс и Мориц, без труда вытворяют над простодушным Каспаром всякие дерзкие штуки.
Диц — у нас ласково звали его Диценька, — чрезвычайно походил на Каспара Шлиха. Даже шляпу так же надвигал. Он приходил к нам раз или два в месяц, вытаскивал из кармана молоток, кучу крошечных гвоздиков, обрезки кожи и резины и садился починять мои туфлишки и мамины босоножки. Он был сапожник, старый приятель бабушки. По-русски Диц говорил с акцентом. Я слышала от старших краем уха, что он — латыш, из Риги, но все равно считала его немцем. Раз похож на Каспара Шлиха — значит немец.
Дица я очень любила и ждала его визитов. Постукивая молотком, он рассказывал мне всякие истории, а потом шептал:
— Я там, в коридор, кажется, приносил маленький пакетик…
Диценька и Каспар Шлих — симпатичные, немного смешные добряки. Немцы.
Однако те, кто швыряет на Ленинград бомбы, — тоже немцы! И те, которые гнались за моей мамой от самого Новгорода, — тоже. И мама пуще смерти боялась попасть к ним в лапы, к этим разбойникам. Она так и сказала мне наутро после своего возвращения — «лапы», «разбойники». Мое воображение работает с неимоверной быстротой. Я рисую себе страшные картины: толпа вооруженных до зубов бандитов, красные платки на головах, искаженные гримасами лица.