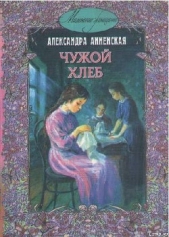Хлеб той зимы

Хлеб той зимы читать книгу онлайн
Автобиографическая повесть современной петербургской писательницы Эллы Фоняковой посвящена ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора. Написанный ярким, простым и сочным языком на основе собственных воспоминаний «Хлеб той зимы» — это честный рассказ без приукрашиваний и нагнетания кошмаров. Книга переведена на многие языки, в том числе вышла в Германии и США.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…Ночью мы остаемся вдвоем с ней в опустевшем институте. Мама дежурит, а меня не с кем отправить домой. Она обходит институтские залы с лепными потолками, мраморные лестницы, анфиладу музейных комнат — проверяет, в порядке ли ящики с песком, на месте ли щипцы для «зажигалок»… А я уже лежу, укрытая маминым пальто, на полосатом диванчике. У него гнутые ненадежные ножки. В гулкой комнате — таинственный полусвет и тени от рыскающих по небу прожекторов. Но что это? Слышатся слабые, нежные звуки музыки. Или это уже мне снится? Протираю глаза — раз, другой и вдруг вижу: играет на свирели маленький кукольный пастушок в атласном камзольчике, спрятавшийся под овальным стеклянным колпаком. Его преданно слушают розовая нарядная пастушка и белая козочка…
Это мама, уходя на крышу, принесла из музея и завела для меня старинную музыкальную шкатулку.
Одна
Дни все короче, темнее. Ноябрь. Мама больше не берет меня с собой — в институте холодно, я там мерзну, скучаю и путаюсь у всех под ногами. С утра до вечера теперь я дома одна. Собираясь на работу, мама горестно вздыхает:
— Приду поздно. Отца тоже не жди. В буфете тебе покушать. Будь умницей.
Стоит входной двери захлопнуться — я одним прыжком к буфету! На фарфоровом блюдечке — пузатенькая, «детская» чашечка с мучным супом — зеленоватой жидкостью-болтанкой и пластик черного хлеба, такой тоненький, что сквозь него просвечивает воздух. Я знаю: больше мне оставить не могли.
Мама и папа съели утром по точно такой же порции. На «детские» и «служащие» карточки выдают по сто двадцать пять граммов хлеба в день — на троих это четверть черной, тяжелой, заскорузлой буханки. Ирочкина мама такого хлеба не признает.
— Там же одни отруби и бумага, — возмущается она. — Разве это можно есть?
Можно! Да еще как! Если ей не нравится, могла бы отдать кому-нибудь — мне, например, или Нюре. Но она почему-то не отдает. Наверное, сушит на сухари и продолжает запасаться.
…Снова и снова заглядываю в буфет. Съесть свой дневной рацион сейчас или немного подождать? Ну, съем. А потом что? Терзаюсь самыми мучительными сомнениями. Отхожу от буфета, копаюсь в постылых игрушках. Но чашечка с супом и, в особенности, хлеб — так и маячат перед глазами. Чем бы отвлечься? Затеваю игру в дочки-матери со своим любимым Микой, хотя он отнюдь не походит на «доченьку».
— Вот, милая, — говорю сокрушенно безмолвному Мике. — Приду поздно.
Отца тоже не жди. В буфете тебе покушать…
Тьфу! Опять этот буфет. Запру-ка я его (ключик всегда торчит из медной скважины и служит вместо оторванной ручки) и уйду в другую комнату. Так и поступаю, но покоя все равно нет. Книгу, которую хватаю с полки, от волнения держу вверх ногами — читать я не в состоянии. И вдруг меня осеняет: съем!
Тогда, по крайней мере, и беспокоиться будет не о чем.
Решено — сделано. Холодный суп пью маленькими глоточками, чтобы растянуть удовольствие. Но счастливая минута проходит быстро, а я как голодной была, так голодной и осталась. Часы тянутся медленно. Сумерки. До выключателя мне не достать, забраться на стул не приходит в голову. Мысли вообще шевелятся в мозгу еле-еле. И я впадаю в какое-то полудремотное состояние. Я не сплю, но нет сил шевельнуться, стряхнуть с себя оцепенение.
Всей кожей ощущаю, что в комнате, в ее неясных углах есть КТО-ТО. Может, он под письменным столом? Или за шкафом? КТО-ТО поскрипывает, шуршит, дышит…
Жутко! Отчаянным усилием воли заставляю себя встать с дивана, на котором прикорнула. Надо вырваться на свет, к людям! В панике несусь через длинный пустой коридор на кухню. Там тепло, тлеют керосинки. Агния Степановна жарит блины на постном масле. Лицо ее пылает и лоснится от жары. На тарелке уже выросла тяжелая мягкая стопка серых ноздреватых блинов. А запах! От этого запаха у меня крепко сводит скулы. Обессиленная, я прислоняюсь к плите и — хоть убейте! — не могу оторвать взгляда от пошипывающего в сковородке блина. Может, попросить один? Да ведь не даст. А если таким жалостливым голосом, и сказать волшебное слово «пожалуйста»? Нет, ни за что! Разве только сама предложит…
С надеждой слежу за каждым движением соседки.
Агния Степановна отводит полной рукой прядь черных волос ото лба и недовольно косится на меня:
— Что ж, мать тебе опять ничего не оставила? Как эта можно, на целый день ребенка бросать?
«Ну дай же, дай! — умоляю ее про себя. — Ну пол, ну четверть блинчика!..» И в ушах начинает навязчиво звенеть детская песенка, которой меня учила тетя Юля: Блин, блин, блин, Полблина, полблина, полблина, Четверть блина, четверть блина, четверть блина…
Песенка изображает колокольный звон — Блинннн, блинннн, блинннн, блинннн…
— Ирочка! — пронзительно кричит Агния Степановна. — Неси скорей блины в комнату, остынут!
Тарелка, соседка и моя закадычная подруга Ирочка уплывают в тоннель коридора, а я слышу, как в двери их комнаты изнутри звякает ключ…
Долго и мрачно нюхаю блинный воздух. И чего, спрашивается, ждала? Чего?
И вчера ведь не дали, и позавчера, и завтра не дадут. Не буду больше выходить на кухню. Нечего унижаться. А они пусть подавятся своими блинами. Я нарочно громко запеваю какую-то несусветицу и марширую в комнату.
Через некоторое время в дверь стучат. Ирка. Сытая, негодяйка! Я сухо перебрасываюсь с ней несколькими словами, и моя подружка, покрутившись у стола, уходит. Забираюсь с книгой в угол дивана. Но что это? Почему и здесь, в комнате, столь основательно удаленной от кухни, витает изумительный блинный дух? Повожу вокруг глазами и носом — и замечаю на краешке стола бесформенный комок газеты. Его же не было, он появился минуту назад!
Разворачиваю бумажку — три блина!
Эх, Ирка, дорогая моя Ирка!
Почему о людях часто думаешь хуже, чем они есть на самом деле?
Нюра
Около семи часов вечера я приоткрываю комнатную дверь, чтобы не пропустить лязганья замков в прихожей и тяжеловатых, торопливых шагов в коридоре. Нюра! Я оживаю, слегка нервничаю, жду.
Ток-ток! Ток-ток! Это Нюра стучит мне в стенку условленным стуком.
Значит, она уже успела зажечь в своей комнатушке свет, переодеться в заношенный горошчатый халатик из фланели и поставить на керосинку наш чайник. Через минуту я у нее. Сижу на единственном стуле с драной коленкоровой спинкой и слушаю Нюрино добродушное ворчание и болтовню.
— Агашка блины пекла? Чаду полная кухня. А у тебя опять по усам текло, да в рот не попало? Ай?
Я в подробностях излагаю дневное событие.
— Девчонка-то у нее добрая, — умиляется Нюра. — Сама только выжига.
Да что нам с нее? Ай?
И правда — что нам с нее?
Нюра работает на табачной фабрике имени Урицкого. Фабрика тут же, на Васильевском, на Восьмой линии. До войны Нюрино лицо, руки, одежда всегда пряно пахли табаком, и мне очень нравился этот запах. Теперь табачного аромата не слыхать. Мне известно, в чем дело — Нюра выдала мне секрет: ее цех перевели с папирос на мины. Называются эти мины очень смешно — «кошки».
— Сколько сегодня «кошек» выпустила? — спрашиваю я Нюру.
— А вот уж этого я тебе сказать не смею, — строго отзывается моя приятельница. — Это-то и есть самая главная военная тайна. Ну что, чай пить будем? Ай?
Еще бы, конечно, будем! Из тумбочки Нюра достает два граненых стакана и два блюдечка, на которых написано красным «Да здравствует РККА» и нарисован красноармеец в островерхом шлеме. Нюра очень дорожит этими блюдечками — их подарил ей «так, один друг», который сейчас на фронте.
На мои просьбы рассказать об этом «так, одном друге» Нюра обычно отмалчивается.
— Это твой жених, да? — пристаю я.
— Много их, таких женихов, — бурчит Нюра. Но блюдечки тем не менее бережет и после чаепития тщательно вытирает их полотенцем. А стаканы просто споласкивает и опрокидывает на тумбочку.
Чай у нас с Нюрой очень горячий и очень прозрачный — одну и ту же заварку, обдавая ее кипятком, используем вот уже вторую неделю. Сахару нет.