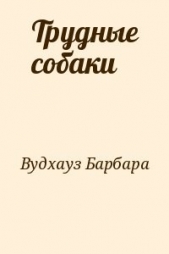Стрекоза, увеличенная до размеров собаки

Стрекоза, увеличенная до размеров собаки читать книгу онлайн
В России, где мужчины из поколения в поколение гибли в войнах, пропадали в ссылках и тюрьмах, спивались, чисто женская семья — явление обыденное, но от этого не менее трагическое. Роман молодой уральской писательницы Ольги Славниковой посвящен истории взаимоотношений матери и дочери, живущих вместе. Шаг за шагом повествование вводит нас в `тихий ужас` повседневного сосуществования людей, которые одновременно любят и ненавидят друг друга. И дело здесь не только и не столько в бытовых условиях, мешающих обустроить личную жизнь двух женщин. В фатальное противоречие вступают мысли и чувства, но эта борьба искусно замаскирована флером внешних приличий. И лишь пристальный взгляд способен увидеть истинное положение вещей. Так хорошенькая безобидная стрекоза под беспристрастной оптикой превращается в страшного прожорливого хищника…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако, наплакавшись и напевшись, Софья Андреевна очнулась и, с отчетливо очерченным румянцем на щеках, запаковала только что обласканные вещи в мокрую бумагу из-под цветов. Сверток получился неловкий и как бы полупустой — вещи там, внутри, не подходили друг другу, — но Софья Андреевна не собиралась мириться с их присутствием и не желала даже на ночь оставлять их не отчужденными от честно заработанного своего. На внезапно озарившейся кухне грязная посуда, подбоченясь, являла объедки неприготовленного ужина; тесто вылезало из миски перепончатым пузырем — увидев его при свете, девчонка запустила туда пятерню, и сразу в миске ничего не осталось, кроме тягучих нитей на растопыренных пальцах и липких ошметков по краям. Не из чего было восстанавливать праздник, и следовало ждать утра, чтобы избавиться от свертка, выложенного на виду, на тумбочке в прихожей.
Наутро Софья Андреевна с дочерью долго ехали в холодном трамвае, который то без конца заворачивал, протягиваясь вдоль стучащих по нему ветвями кустов, то мчался по незнакомым пространствам с отдаленными громадами многоэтажек и кучками пассажиров на остановках, черневших среди метельного безлюдья, возле урны и поломанной скамьи. Софья Андреевна, сурово глядя мимо всего, размышляла, что девятого марта стол находок может и не работать, а замерзшая девочка удивлялась, отчего они отправились так далеко на незнакомом номере, если милиция есть буквально в двух шагах, в деревянном доме, где высокое крыльцо и на окнах крашеные решетки. Накануне, скармливая дочери вместо праздничного ужина вспузырившиеся, похожие на шляпы мухоморов, ломти жареной колбасы, Софья Андреевна повторила несколько раз, что завтра поведет ее в милицию, и девочка сжималась от мысли, что теперь непременно достанется Колькиной матери, работавшей в тюрьме, а вовсе не волнующим незнакомкам, которых даже поиски пропажи не могли удержать на месте, и они, поозиравшись, уходили — мгновение не успевало остановиться, чтобы из ближних друг к дружке девочек и женщин сделать новых дочерей и матерей.
Вероятно, мать везла ее в какое-то особое милицейское отделение, специально занимавшееся малолетними ворами. Они сошли посреди белесой всхолмленной пустыни и, как только трамвай, заметая рельсы, нырнул под уклон, очутились одни. Серое небо неуловимо рождало колючие белые точки — на фоне зданий с одним большим горящим кубом магазина, неоглядной равнины смиренных гаражей трепет легкого снега был неразличим, но делал призрачным все, кроме самой поверхности земли, где по черному льду волочилась, внезапно замирая яркими языками и снова срываясь с места, драная кисея. На этой бетонной окраине туманные башни и циклопические стены со свистящими арками вздымались безо всякой связи и порядка: вместо улиц были коридоры сыпучего ветра, налетавшего из-за любого мутно-серого угла и непонятно как выбиравшего из разных направлений пустоты, где даже нечего было взвихрить с тротуара; девочка долго смотрела, как ветер подбирал, ронял и, запнувшись, снова подхватывал единственную среди всей метели голубую пачку из-под сигарет. В это время мать, запрокинув голову, пятилась на кучу не то остроугольных снежных комьев, не то побитых камней. Громадные номера на домах проступали из морока так высоко, что, стоя рядом, невозможно было разобраться с адресом, размытая махина со слабой желтизной в горящих окнах нависала безымянно и совершенно сама по себе, — девочка чувствовала, как болезненно врезаются в ее сознание эти щупающие шажки задом наперед, и висящие руки, чувствовала, как свое, тугое сжатие в материнском затылке.
Сейчас ей было гораздо хуже, чем когда ее вели к имениннице Любке. Девочка полагала, что не вернется из милиции домой: уходя, поглядела так, будто квартира ее теперь и не ждала, вот только жалко было коврика над кроватью — томиться в тюрьме означало для девочки не глядеть сквозь решетку, а спать возле голой стены. Еще сжималось сердце из-за старой настольной лампы, внезапно переставшей включаться, — рядом с мертвой кнопкой на подставке темнели как ни в чем не бывало шесть вишневых косточек из варенья, потребовавших почему-то быть сосчитанными. Как будто лампа представляла собой бог знает какую ценность — но девочка знала, что большинство вещей в квартире, неизменно стоявших и висевших годами, доживет до ее возвращения, а лампа, чью беду ей вечером удалось утаить от матери, читая книжку на тусклой тараканьей кухне, не доживет: мать все равно обнаружит дефект и выбросит лампу на помойку. С собой у девочки был только сверток с украденным — мать велела нести его в руках. Девочка, в общем-то, и не хотела обратно домой, потому что ночью проревелась всласть, пролежала до первого тонкого света, пробившегося словно из-под земли, — такого подземного света она прежде никогда не видела, — и теперь не хотела, чтобы все это пропало зря. Она потихоньку думала о том, какие ребята будут в тюремном классе, какие воспитатели, — а еще о том, что так и не призналась матери в воровстве, потому что признание все равно не угодило бы в цель и было бы просто про другое. Все-таки девочке хотелось, чтобы мать не убегала от нее вперед, не лезла бы на кучи битого, снега, охватывая взглядом заметаемые цифрищи, — побыла бы с ней, будто ведет в больницу.
Но даже когда они отыскали нужный номер — целью их оказалась блочная пристройка над обрывом, куда, едва прицепленный корнями и похожий на колючку, свешивался мерзлый куст и где недалеко белели крыши гаражей, — даже тогда отчуждение не исчезло. Тяжелая, но плохо стоявшая дверь была заперта на один кривой железный зуб, и пришлось дожидаться часа открытия, указанного на табличке, главная надпись которого — «Стол находок» — несколько удивила девочку. Однако она подумала, что таков порядок, и дальше безо всякой мысли глядела на высящиеся вдоль тротуаров и проездов руины прошедшей зимы, мало отличимые по материалу от проступавших из метели зданий, казавшихся случайно уцелевшими, — словно бы зима была вторым, отдельным городом, и не верилось, что одно останется, а другое растает навсегда. Мартовский снег, потекший гуще и белее за последний час, уже не мог быть утрамбован в состав руин и струился по обломкам слоистых плит, будто какое-то другое, не сродное им вещество, — не держался даже в глубоких расщелинах, выметаемый дочиста взмахами легкого ветра.
Девочка замерзла до того, что уже почти не чувствовала ног, тупыми чурками стоявших на выпирающей с ответной твердостью земле; у матери нос горел, простая красная помада на губах побледнела и потрескалась. Она то и дело копалась в толстом рукаве, выпрастывая часы. Наконец дверь протявкала двумя оборотами замка и освобожденно села. Мать и дочь столкнулись и почти в обнимку бросились в тепло, поплывшее на них из полутемного помещения вместе с застарелым запахом кладовки, немытых казенных стен. Впереди, не оглядываясь и будто удирая от посетителей, переваливалась большими и как бы плохо совмещенными половинами зада узкоплечая тетка, вероятно, открывшая дверь. Корпус ее, опоясанный единственной, зато толстенной складкой жира, похожей на спасательный круг, затмил по очереди два окна, бледных и словно растянутых за углы для обострения слабого света, сразу исчезнувшего в трепете люминесцентных трубок, с нескольких попыток прочертившихся на потолке. Почти одновременно тетка и обе посетительницы достигли барьера, делившего помещение на прихожий закуток с угрюмым растением в кадке, хищной позой напоминавшим музейный скелет динозавра, и на казенную часть с многоэтажными рядами стеллажей, упиравшихся в голую далекую стену: там, в глубине хранилища, стоял, неестественно вывернув переднее колесо и как бы преграждая им себе дорогу, гоночный велосипед. Тетка протиснулась в два приставных приема, уронила за собой лоснящуюся досочку на петлях и только теперь, служебно утвердившись, предстала лицом, где преобладали большие, потекшие щеки и лиловые припухлости на месте выбритых бровей, с наслюнявленными карандашиком черными нитками. Теперь она уже не торопилась: выдернула из розетки шепчущий, исходящий слабым паром электрический чайник, ударом бедра задвинула пару каких-то легких ящиков, осторожно, одною стороною рта, пристроилась к обкусанному вкруговую бутерброду с разомлевшей колбасой. Перед нею на столе покоилось обширное вязанье, собранное на спицах мешком: бережно перенеся его к себе на колени, тетка заработала спицами, точно веслами, совершенно, казалось, позабыв о посетительницах.