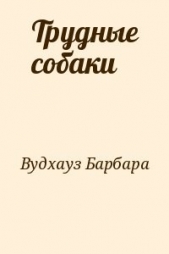Стрекоза, увеличенная до размеров собаки

Стрекоза, увеличенная до размеров собаки читать книгу онлайн
В России, где мужчины из поколения в поколение гибли в войнах, пропадали в ссылках и тюрьмах, спивались, чисто женская семья — явление обыденное, но от этого не менее трагическое. Роман молодой уральской писательницы Ольги Славниковой посвящен истории взаимоотношений матери и дочери, живущих вместе. Шаг за шагом повествование вводит нас в `тихий ужас` повседневного сосуществования людей, которые одновременно любят и ненавидят друг друга. И дело здесь не только и не столько в бытовых условиях, мешающих обустроить личную жизнь двух женщин. В фатальное противоречие вступают мысли и чувства, но эта борьба искусно замаскирована флером внешних приличий. И лишь пристальный взгляд способен увидеть истинное положение вещей. Так хорошенькая безобидная стрекоза под беспристрастной оптикой превращается в страшного прожорливого хищника…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если бы Иван хоть однажды явился к Софье Андреевне в такую минуту — и не просто явился, а, поняв значение корки горелого сахара на ее пересохших губах, сумел бы сделаться для нее безликим, как бы неузнанным, сумел бы пожалеть ее своими руками и стать ее новым осязанием, которым она бы ощутила самое себя, — тогда, быть может, Софья Андреевна стала бы другим человеком, умеющим изживать обиды, а не накапливать их, как единственный свой капитал.
Но ни разу не вышло совпадения: Иван по большей части возникал в обычные, трудовые часы, когда выносливое тело Софьи Андреевны бывало поглощено усилиями стирки и готовки и не чувствовало даже укусов масла, стреляющего на сковороде. Бодрая, заранее настроенная, что надо заниматься этим, полагающая через это обязать Ивана благодарностью, Софья Андреевна подчинялась ему с принужденной улыбкой и старалась (чтобы он не трогал) как можно больше снять самой: скорей запихивала под простыню скомканное бельишко. Всегда получалось грубо, тяжело: мокрые всхлипы вспотевших тел, суматошные толчки. После первого раза в сарае поцелуи у них даже в минуты близости сделались почти запретны, оба отворачивались и мотали головами, будто пассажиры троллейбуса, случайно стиснутые давкой. В результате Софья Андреевна чувствовала только жжение и позывы бежать в туалет. Глядя на лоснящегося, моргающего Ивана, она прикидывала, что, если ей настолько плохо, если она платит такую цену, значит, ему должно быть райски хорошо, и испытывала нечто вроде гордости своими женскими качествами.
В глубине души она была готова даже на худшее (сожженные книги и разные смутные отзвуки составили представление о фантастических способах этого, превращающих мужчину в какого-то зверя, что добывает свое удовольствие, терзая женщину до потери сознания). Поэтому Софью Андреевну просто оскорбляло, когда Иван, перекатившись на живот и утвердившись в позе загорающего на пляже, начинал выспрашивать, понравилось ли ей, успела ли она «получить свое». Ей казалось, что Иван пытается уменьшить ее заслугу перед ним, чтобы не быть обязанным жениться. Самая мысль, что она может получать от этого удовольствие, была донельзя оскорбительной и низводила Софью Андреевну чуть ли не до уровня ее десятиклассниц, чьи юбки после каникул настолько укоротились, что форма на них сделалась условной, будто костюмы опереточного кордебалета, — причем красотки были с красненькими, придававшими их передвижениям как бы общий пунктир комсомольскими значками. Софья Андреевна полагала ниже своего достоинства отвечать на вопросы Ивана и лежала перед ним бесстрастная, подоткнув под себя одеяло (ему она купила отдельное за тридцать рублей). Даже когда Иван начинал сердиться и пихаться локтем, Софья Андреевна не произносила желанных ему примирительных слов, потому что это было бы слишком, было бы уже идиотизмом самопожертвования. Наконец Иван, ругаясь сквозь зубы и наворачивая на себя постель, переваливался лицом к стене. Тогда освобожденная Софья Андреевна тихонько выпрастывалась и, натянув халат, первым делом собирала по комнате вещи Ивана, поглядывая на него то оттуда, то отсюда, не веря ровному шуму его неподвижного сна. Вещи, взятые в руки, распадались: от кальсон отваливался заскорузлый комочек носка, второй продолжал висеть на штанине, как кукиш; выскальзывал и брякался брючный ремень, из карманов сыпалась сорная всячина. Не все удавалось найти, и так грустно бывало после, одной, обнаружить закатившуюся конфету в проклеенном фантике или медную зажигалку, из которой после многих нажимов и срывов, оставлявших на пальце рубец, высекался голубоватый и хилый, как пух; огонек. Раз из кармана брюк с легкостью фокуса поплыло, исторгая новые и новые картинки, нечто вроде колоды игральных карт. Нагнувшись, Софья Андреевна не сразу поняла изображения: поначалу ей померещилось, что это сцены убийства полураздетых женщин, вспомнились милицейские уличные стенды с жирно пропечатанными фотографиями преступников, как бы ищущих в кучке зевак ответного черного цвета для предварительного опознания. Однако снимки, расстелившиеся по половицам, не были просто черно-белыми. Фломастером, от руки, Иван разрисовал простертым жертвам то, что, вероятно, казалось ему красивым. У одной блондинки губы и сосцы получились малиновые, а волосы цвета сырого желтка, у какой-то другой, размером поменьше, ярко зеленели трусики и туфли. Что-то отозвалось в душе у Софьи Андреевны — в детстве раскрасить значило полюбить, — но вдруг она, просто потому, что преступники на снимках были исключительно мужчины, догадалась, что убийства имеют отношение к этому. В следующую секунду она поняла, что перед ней именно это и ничто другое, — вспомнила, как на педсовете кто-то говорил, что такие снимки продаются на вокзале, в электричках. Сразу красноротые женщины, ужасные в соединении полуголых тел и улыбающихся, ничего не ведающих лиц, похожие на трупы или вскрытые кукольные механизмы, сделались живыми, и Софья Андреевна, никогда и никого не признававшая таким же, как она, неожиданно ощутила себя одной из них, со всеми их особенностями под своим несвежим байковым халатом. Через какое-то время она осознала, что стоит на четвереньках над рассыпанными карточками, а Иван, приподнявшись на локте, глядит на нее настойчивым взглядом, одновременно умоляющим и злым, каким отличник смотрит на двоечника, вызванного к доске, без слов пытаясь внушить спасительную подсказку. Эта попытка сделать размякшую Софью Андреевну такой же, как остальные, едва не стала успешной: Софья Андреевна на том неметеном полу едва не забыла и свои крахмальные воротнички, и проценты успеваемости, и все свои старания, чтобы арестованный отец, вернувшись, не признал своей пионерку с одними пятерками, студентку с тугими пуговицами до горла, передовую учительницу.
Однако, сделав над собой надлежащее усилие, Софья Андреевна собрала фотокарточки, плотно завернула их во вчерашнюю «Правду» и выбросила в мусорное ведро, жалея, что не может сжечь и избавить Ивана от соблазна выкапывать свое сокровище из мокрых очисток и рваных бумажек с могучими черными сургучами. С тех пор единственную мужскую обязанность по дому — выносить ведро — Иван целиком предоставил ей самой, а однажды Софья Андреевна обнаружила в ведре свои почетные грамоты, где профили вождей пропитались, точно гноем, пятнами жира с томатом. Первой мыслью было, что раньше Ивана за это отправили бы в лагеря, и вместе со вспышкой желания, чтобы его действительно посадили, Софья Андреевна почувствовала тоску. Она поняла, что его, наверное, действительно посадят или он исчезнет по какой-то иной причине, как исчезали все мужчины из их провинциальной благонамеренной семьи. В сущности, странное поведение — сперва вцепиться в мужика и женить на себе, а через считанные недели выгнать из-за обычной пьянки, не бывшей новостью даже для замужних членов ее учительского коллектива, — объяснялось, вероятно, именно этой тоской. Возмущенная Софья Андреевна, указывая Ивану на дверь, до которой он только что едва доплелся сквозь мелкую жгучую вьюгу, допадавшись до ледяных мозолей на штанах и пальто, исходила из должного, — но должным была не благопристойная семейная жизнь, якобы диктуемая ее общественным положением, но подспудно осознаваемая судьба остаться в одиночестве.