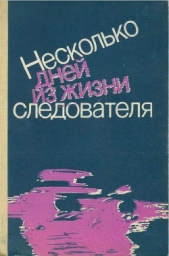Книга Мануэля
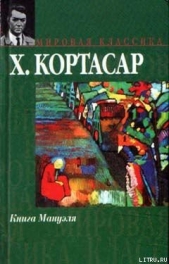
Книга Мануэля читать книгу онлайн
«Книга Мануэля» – последний роман известного писателя Хулио Кортасара (1914 – 1984). Это своеобразная книга в книге, которую делают для двухлетнего Мануэля, наклеивая в альбом газетные вырезки, его родители Сусанна и Патрисио, а также их друзья, молодые латиноамериканцы и французы, живущие в Париже 1970 года. Автор описывает любовь, маленькие радости «беспощадно-нежных» провозвестников Большой Бучи, их «карманное» сопротивление ненавистному обществу, эпатаж буржуазии. Но вот покончено с ребячеством, впереди – рискованная операция по захвату заложника
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Значит, с твоей так называемой Йоландой было по-другому, – сказал мой друг, не любивший отступлений и того, что сочиняется к случаю.
– Почему ты говоришь «так называемой»? – обиделся Лонштейн. – Вы, портеньо, уже ничему не верите, ублюдки чертовы. Да, ее действительно звали Йоланда, у нее и сейчас галантерейная лавка в Колехиалес – штука-то была в том, что я хотел выяснить, сумеем ли мы сохраниться как пара, даже не здороваясь по утрам; признай, что в этой идее были зародыши антропологической мутации. Вероятно, все могло бы потихоньку возродиться, и, долгое время не видясь, мы бы увидели друг друга такими, какими были на деле, но покамест наша квартира походила на театр марионеток – один уходит, другой приходит, один обедает в двенадцать, другой в час, разве что нам обоим вдруг вздумается поесть в четверть второго, и тогда мы одновременно накрывали на стол и стряпали, при этом случались ужасные ошибки, когда мы вместе хватались за солонку или за сковороду, доля секунды решала, кто победил; а другой оставался с повисшей в воздухе рукой, или, например, однажды я сидел на толчке, и тут входит Йоланда, и, увидев меня, она после многих недель молчания заявляет: «Или ты уберешься, или я наделаю на голову», и я, не поняв, на чью голову, ее или мою, сбежал, не завершив дела. Заметь, что вопрос секса решался у нас единственно возможным в то время способом, ведь для любви нужны были мы оба, и это составляло проблему, которая все же решалась в какой-то период, – когда великий слепой черный бог вонзал свое копье, один из нас подходил и клал другому руку на плечо, и тот мгновенно подчинялся. Варианты, повторения, капризы – все выражалось инстинктивными движениями, и партнер понимал их и уважал; это и впрямь было ужасно.
– Ну ладно тебе, – с облегчением сказал мой друг, которому казалось, будто он слышит исповедь паука или кролика.
– Вот в то время, когда у нас с Йоландой все кончилось и она вернулась к родителям, я и начал заниматься онанизмом упорядоченно, а не так, как в детстве. Теперь у меня был богатый опыт, точное знание пределов удовольствия, его вариантов и разветвлений; то, что многие полагают – или, еще чаще, притворяются, будто полагают, – неким эрзацем эротизма в парном сексе, у меня постепенно становилось произведением искусства. Я научился онанировать, как человек учится водить самолет или вкусно готовить, я обнаружил, что эротизм этот здоровый, если не прибегать к нему только как к заменителю.
– Послушай, а тебе не трудно об этом говорить?
– Еще как трудно, – сказал Лонштейн, – и именно поэтому я считаю, что должен говорить.
Мой друг испытующе поглядел на него в профиль, в три четверти – Лонштейн был немного бледен, но глаз не отводил, руки его между тем доставали и зажигали сигарету. Было очевидно, что его исповедь не следствие эксгибиционизма или другого извращения. «Именно поэтому я считаю, что должен говорить». Почему «именно поэтому»? Потому что трудно и противоречит схемам благоприличий? Давай, давай, сказал мой друг, для меня, правда, это отнюдь не ночь Клеопатры, давай трепись, проклятущий кордовец, пока не покажется Феб.
В эти часы или дни – уж не помню, в среду или в четверг, – разговоры, в которых мне приходилось участвовать, походили на разговоры стрелочников – словами, гримасами, будто руками, медленно приводились в движение какие-то рычаги, и поезда, прежде мчавшие с востока на запад, поворачивали на север (один из них вышел из Парижа в Веррьер – эта поездка в нормальных условиях заняла бы двадцать минут, а на сей раз продолжалась несколько дней, но не будем подражать вышедшим из моды сфинксам или – но это подумал уже мой друг – пуччиниевским принцессам, поющим из динамиков в отеле), суть в том, что в разговор вступаешь, будто входишь в кафе или развертываешь газету – открываешь рот, дверь или страницу, не думая о дальнейшем, и вдруг – авария. С Людмилой я это знал заранее, однако рука нажала на стрелку слишком грубо, поезд пустился по новой колее со скрежетом неминуемой катастрофы уже на первой странице, не знаю, каким маневром тормозов машинист избегал крушения, но факт, что избегал, – эти воображаемые поезда валятся под откос, и никто даже не заметит. Любопытно (какое-нибудь наречие всегда подвернется, коль хочешь что-то замаскировать), что я как раз тогда прочитал Рене Шара о периоде сопротивления нацистам на юге Франции, из многих страниц дневника и стихов мне запомнилась одна простая фраза: «Certains jours il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles ? d?crire» [95], и тут мой друг рассказывает мне о ночи с Лонштейном, и мы оба почувствовали, что, хотя Лонштейн говорил о чем-то конкретном, что ему было необходимо высказать, пусть через силу, в этом никак нельзя видеть лишь исповедь, поскольку раввинчик не относился к категории людей, нуждающихся в исповеди; скорее это было связано с некими внешне далекими обстоятельствами, на мой взгляд противоречивыми и меж собой не связанными, но мой друг, более осведомленный, сумел их соединить и связать воедино – вот, к примеру, Оскар, тот факт, что Оскар тоже состоит в Буче, выполняя функцию, совершенно не объяснимую в свете принципов разума или директив КП. Посему мой друг начинал преступно смешивать все вместе, он, претендовавший на то, чтобы все расставить по полочкам – чубарых в одну сторону, соловых в другую; теперь он уже понимал, что разделить все причины почти невозможно, во всяком случае, они были неразделимы и для Лонштейна, и для Оскара (также для Маркоса, но Маркос об этом не очень-то распространялся, разве что под действием можжевеловой, как при его хвалах «восторгам», где вдобавок темой была Людмила), и в те дни, когда мой друг встречался с Андресом, карты в его колоде перемешались, и Андрес подумал, что у моего друга и у Людмилы уже нет общего расписания поездов, по которому можно, как прежде, сверяться, ибо стрелки везде сдвинули рельсы и со вторника до пятницы происходило какое-то всеобщее нарушение движения. Для меня все это имело личный интерес, и мне вовсе не хотелось вносить ясность и посвящать в эти дела третьих лиц, но мой друг двигался по иной колее – Буча, сперва казавшаяся ему чем-то бредовым, а потом забавным, но всегда чем-то простым и даже примитивным, начинала в таком виде сыпаться у него меж пальцев, как струйка песка, и поэтому он смотрел на Лонштейна с явным неудовольствием.

[96]
Фактически же, когда мой друг пересказал мне лонштейновское рассуждение, я был готов понять то, что Людмила уже поняла, то, что Маркос понимал с самого начала, то, что Оскар старался понять с другой точки зрения, то, что очень многие, возможно, поймут когда-нибудь; но пока для этого еще было рано, и вдобавок был сон о фильме, который, как шмель, все возвращался со своим гнетущим провалом памяти после того, как открылась дверь в комнату, где кто-то («один кубинец, сеньор») ждал меня, чтобы что-то мне сообщить; возможно, было еще рано и для этого сна, но все равно Шар прав – нечего бояться называть прямо вещи, которые описать невозможно, как прав был Лонштейн, описывая моему другу вещи, которые невозможно назвать прямо, уж не говоря о том, что история тем временем продолжалась, в чем легко было убедиться за несколько cy в киоске.
Андрес уже все знал. Людмила могла вернуться и промолчать, или не вернуться и позвонить от Маркоса, или не вернуться и не звонить (варианты почтовые, телеграфные, всякие демарши друзей); когда она вошла в квартиру на улице д'Уэст, было около полудня, но на сей раз она явилась без лука-порея. Андрес спал голый, одна его рука лежала на ночном столике между будильником и другими предметами; видимо, под влиянием кошмара он сбросил одеяло и простыню – живописно драпируясь, они валялись у его ног и рядом с кроватью, и Людмиле представилось какое-то историческое полотно, Жерико или Давид, отравившийся Чаттертон, название вроде «Слишком поздно!» и его варианты. С минуту она смотрела на это тело, повернутое спиною, бесстыдное и как бы отчужденное от себя самого, молча поздоровалась с ним улыбкой и прикрыла дверь; она тоже ляжет спать, но на диване в гостиной, собрав на место полдюжины пластинок, которые Андрес оставлял где попало. Со стаканом молока в руке, закутавшись в халат Андреса, она подумала, что хорошо бы чуточку вздремнуть – ведь в три часа ей идти к Патрисио за инструкциями. Пояс был быстро ослаблен, Маркос, с гримасой боли втягивая живот, помогал это сделать, и Людмила сумела расстегнуть верхние три пуговицы до резинки трусов. Только бы не было внутреннего кровоизлияния, сказала она, увидев расползшуюся книзу сине-зеленую карту Австралии. Не волнуйся, полечка, ты же видишь, я дышу свободно, это всего лишь ушиб. Да, вижу, сказала Людмила, самое лучшее сейчас – спиртовая примочка. Придется взять водку, сказал Маркос, алкоголь в этом доме имеется только в таком виде. Когда он тихонько поцеловал ее ухо, приостановив научное исследование пораженного участка, Людмила припала головой к его груди и на минуту так застыла. Они ничего не говорили, согретый чай, согласно физическим законам, остывал.