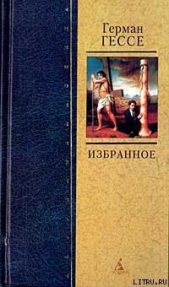Актовый зал. Выходные данные

Актовый зал. Выходные данные читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пошли, старина, — позвал Трулезанд, — с биологией все ясно, девочки наши что надо. Я тебе все сейчас расскажу… Ну, чего ты на меня уставился? Может, обиделся за фрейлейн Шмёде и младенцев? Я, брат, вовсе не хотел тебя обидеть. Просто критически подошел к этому вопросу.
Они отправились в гимназию, и по дороге Трулезанд разъяснил ему взгляды доктора Ваннермана на биологию. Только перед дверью, над которой было написано «Мы учимся не для школы, а для жизни» {27}, Роберт сказал:
— Дашь мне вечером листок почтовой бумаги из запасов тети Мими, а еще лучше — два?
— Claro, — ответил Трулезанд.
Роберту понадобилось три листка. Он писал письмо, а Трулезанд и Якоб повторяли для Квази Рика урок биологии и без конца спорили: Трулезанд пытался по-своему изложить высказывания доктора Ваннермана, Якоб же настаивал на точности и каждый раз читал вслух свои записи; Вера Бильферт принесла ужин для Квази, ее тоже расспросили об одноклеточных и делении клеток, и она высказала третью версию ваннерманского сообщения. Заглянул передовик Бланк, полюбопытствовал, что они станут делать с брикетами, если не собираются топить из-за Квази Рика, но получил эти брикеты, лишь изложив свою точку зрения на деление клеток; пришел и ушел Старый Фриц — пришел сообщить, что все уладилось, ко всеобщему удовольствию, райком прислал письменное подтверждение, и ушел, напомнив им для бодрости, что даже такая болезнь не в состоянии остановить победное шествие исторически нового; ввалился привратник и объявил, что тот, кто еще раз поднимется по лестнице в грязных ботинках, будет иметь дело лично с ним; а Роберт все писал.
«Дорогая Инга,
— писал он, — Все для нас погибнет, если будет продолжаться так, как было до сих пор. Я все делал неверно. Никогда я тебе не лгал, но и не всегда говорил правду. Ладно, думал я, обойдется, это не в счет, пустяки, такие мелочи не стоит принимать всерьез. И так каждый день должал, по грошику. А теперь вот сижу и пишу тебе. Пишу: скажем друг другу „прощай“, пока мы не изолгались вконец. Но сейчас мне пришло в голову, что ты подумаешь, будто я все забыл, все хорошее. Нет, не забыл. И не забуду. Просто не хочу писать об этом, боюсь, что уговорю себя, как и раньше.
Всегда, когда на душе кошки скребли, я вспоминал твои голубые глаза, и дым костров на картофельном поле, и запах люпина и мокрых волос. Ну и к чему же мы пришли? Вот я и решил не дожидаться встречи, а написать тебе. Не знаю, смог ли бы я сказать то, что пишу. У тебя слишком большие глаза.
Я теперь не скоро приеду в Парен. Не только потому, что уж очень близко там наше озеро и ели на берегу Эльды, но, главное, потому, что должен остаться здесь. У нас теперь много дела, по математике дошли уже до икса, а по биологии надо подать раскрашенные таблицы с делением клетки, и один наш товарищ болен, даже по воскресеньям не может никуда выйти, это тот, жестянщик, который всюду вставлял словечко „квази“, хотя в последнее время что-то перестал. Лучше не пиши мне, Инга. Твой Роберт».
Она и не писала. Она не ответила, что было и плохо для Роберта и все-таки хорошо. Плохо не знать, услышали ли тебя, поняли ли; плохо, когда представляешь себе, что письмо твое порвали, но еще хуже думать, что его читают и перечитывают. Мучительно думать о слезах, но еще мучительнее — о холодном блеске глаз. Особенно скверно было поначалу, среди дня, — он все ждал стука в дверь и слов: «Письмо Роберту Исвалю!»
И все-таки это было хорошо. Роберт понимал, что готов по одному-единственному ее слову зачеркнуть свое письмо, объявить его сумбуром, сочиненным в сумбурную минуту, взять его с покаянием и стыдом назад, он знал, что готов проглотить все ее возражения и снова стать покорным.
Да, хорошо, что этому положен конец. Он чуть не стал свойственником, или как это там называется, вдовы проповедника, для которой цирк — языческое действо, а русские — порождение дьявола. И он чуть было — да нет, ей-богу, ему бы этого не избежать, — чуть было не украсил в один прекрасный день свою голову цилиндром, а партийный значок — миртовым букетиком и не встал к алтарю. А рядом с ним стояла бы невеста в белом платье — конечно, в этот день в белом, в виде исключения, — и орган заливался бы вовсю, а Инга Исваль, урожденная Бьеррелунд, нежно подтолкнув его локтем, показала бы глазами на витражи: смотри-ка, сегодня в церкви, как в лесу… Гм.
Очень хорошо, что всему положен конец! Роберт поделился только с Трулезандом. Тот выслушал его и одобрил, хоть кое о чем и пожалел. По крайней мере, сказал он, Роберту следовало с ней встретиться, да и Трулезанду хотелось бы ее разок увидеть. Судя по всему, не слишком она вредная, а в Рибнице вообще ни одной такой девчонки нет, еще, чего доброго, не успеешь и поглядеть на такую.
— Не успеешь? Как это не успеешь?
— Ну, до женитьбы. Или, ты думаешь, женитьба не такое уж неизбежное зло? Почитай-ка Энгельса «Происхождение семьи…», тогда поймешь, что с научной точки зрения это неотвратимо, ибо семья и государство исторически между собой связаны, а мы основали новое государство, так тут уж никак не избежать женитьбы, ну и все такое…
С Якобом ни Роберт, ни Трулезанд о девушках не разговаривали. Якоба одолевали иные заботы. В учебном материале Якоб барахтался, как новичок в бассейне. Он в отчаянии цеплялся за все правила, это ведь было единственное, за что можно уцепиться. Он двигал руками и ногами именно так, как его учили, он дышал по команде, а когда команды не было, точно делал заученные движения, но при каждой непредвиденной волне захлебывался. Не заболей Карл. Гейнц Рик, Якоб, скорее всего, потонул бы на первых же ста метрах. Чем слабее был Квази, тем сильнее становился Якоб. Но теперь Роберт и Трулезанд каждое утро, готовя домашние задания, вспоминали прошлый урок, и для Якоба это было чем-то вроде дополнительных занятий. Он сидел у постели больного, слушал Роберта и Трулезанда, внимательно сверял их наложение со своими записями, поправлял дословными цитатами причудливо измененные Трулезандом правила и настаивал на подробностях, если Роберт пытался объяснить в общем и целом. А когда попадались особенно трудные места и связь между словом и записью терялась, Якоб озабоченно склонялся к Карлу Гейнцу Рику и спрашивал:
— Ну, а это ты понимаешь, Карл Гейнц?
Иногда Квази отвечал, что нет, не понимает, а иногда говорил — да, понимает. Скоро, однако, они догадались, кто же из них не понимает, и раздел, о котором Якоб спрашивал Рика: «Ну, а это ты понимаешь?» — всегда повторяли.
А скажет Якоб: «Ну, вот видишь», — и хлопнет Рика по плечу, значит, можно двигаться дальше, и, если бы в комнату «Красный Октябрь» вошел посторонний и понаблюдал за лицами четырех ее обитателей, он скоро заметил бы, что Квази Рик то и дело переводит взгляд со своих учителей на Якоба Фильтера и что взгляд его темнеет, словно чего-то требуя, как только темнеют глаза Якоба. Тогда, опережая Якоба, спрашивал уже Роберт или Трулезанд: «Ну, а это ты понимаешь, Карл Гейнц?»