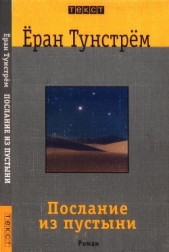Рождественская оратория

Рождественская оратория читать книгу онлайн
Впервые в России издается получивший всемирное признание роман Ёрана Тунстрёма — самого яркого писателя Швеции последних десятилетий. В книге рассказывается о судьбе нескольких поколений шведской семьи. Лейтмотивом романа служит мечта героини — исполнить Рождественскую ораторию Баха.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Где-то наверху вдруг отворилась дверь, и Турин ретировался во двор. Там в углу стояли мусорные баки, от которых несло рыбой, за ними он и схоронился. На крыльцо вышли Карина Сеттерберг и Гари.
— Побудь здесь, во дворе, пока я не вернусь, слышишь?
Гари не ответил, прислонился к дереву и посмотрел на мать.
— На улицу не выходи.
Гари и теперь не отозвался. Турин смотрел. Его сынишка, пяти лет от роду, в кепочке с наушниками, заслонявшими чуть не все лицо, теплые варежки, короткое пальтецо, теплые чулки. Заложив руки за спину, мальчик покачивался вперед-назад возле дерева и молча провожал взглядом Карину, которая исчезла на улице.
Турин вышел из своего укрытия:
— Здравствуй, Гари. Я твой папа.
Гари молчком взглянул на него и отвернулся.
— Может, поздороваешься со мной?
— Ты не мой папка, — сказал Гари.
— Именно что твой.
Турин протянул ему шоколадку. Гари выхватил ее, сорвал обертку. Мальчик был некрасивый. В меня пошел, думал Турин, хотя волосы под кепочкой другого цвета, и глаза тоже. Но неказистостью точно весь в меня. Гари, не глядя на Турина, ел шоколадку.
— Большой-то какой стал. Тяжелый, поди. Можно я тебя подниму?
— Ворюга поганый, вот ты кто, — сказал Гари и отпрянул, едва Турин нагнулся к нему.
— Это мама… так говорила… ну, что я…
— Я сам вижу, — отрезал Гари.
Турин никогда не бранился, и слова Гари больно его ранили. Но мальчонка небось другого и не слыхал. Видать, жил среди брани, и Турин сказал:
— Хочешь, сходим вместе в кондитерскую?
— Нет, — буркнул Гари.
— Пирожных тебе куплю, сколько захочешь.
— С малиной?
— И с малиной, если такие у них найдутся.
— Мама велела мне ждать здесь, пока она не придет. Нет, ты все ж таки поганый ворюга.
— Почему ты этак со мной разговариваешь, Гари?
— Все — поганые ворюги, у тебя есть еще шоколадка?
— А потрогать-то тебя можно?
Гари выпрямился перед ним, но глаз не поднимал. Турин подхватил его на руки, прижал к себе худенькое тельце, хотел заглянуть в лицо, увидеть, как он смеется, но мальчик даже не думал смеяться: мрачно смотрел на Турина и нетерпеливо протягивал руку за шоколадкой. Турин вынес его на улицу.
— Здесь неподалеку есть кондитерская. Да и в кармане у меня еще полно шоколадок. — Он сказал так, потому что неподалеку находилась стоянка такси.
Снег сыпал на них, ноги то и дело скользили, и Турин думал: может, Гари интересно будет проехаться на автомобиле. У Турина всегда было при себе много денег, он считал их частью свободы, но тратил редко — фантазии не хватало, и они просто копились. «Только в такси я и надумал взять его с собой, — заявил он позднее перед судом. — Когда мы уже сидели на мягком заднем сиденье и он опять обозвал меня поганым ворюгой. Тогда-то мне и пришла мысль, что, если взять мальчонку с собой, у него будет возможность отвыкнуть от этаких речей. Промолчи он, и я бы…» — «Вы сознавали тогда, что нарушаете закон?» — спросил обвинитель. «Закон… — ответил Турин. — Закон иной раз очень-очень жесток».
_____________
Детская пирушка, о которой мечтал Турин, так и не состоялась; время года он выбрал неподходящее и с горечью это осознал, когда, трижды сменив такси и выехав из Карлстада, нес в потемках к дому отяжелевшего от шоколада и фруктовой воды и наконец-то заснувшего Гари. Сад, холодный и голый, лежал под снегом, качели, где они могли бы сидеть в теньке и лепить глиняных зверушек или тихонько качаться вдвоем, — качели были скованы морозом, люпины и плодовые деревья затаились поодаль, а над озером плыли холодные тучи. Все изначально пошло вкривь и вкось, но Турин понял это лишь сейчас; он будто тешил себя надеждой, что хотя бы сад окажется неподвластен временам года, что канава у забора как раз и будет границей меж зимою и летом, меж днем и ночью, меж одиночеством и общностью. Всего-навсего один прыжок через канаву. Малюсенький прыжок — и перед Гари откроется его лицо, и оба они соединятся в улыбке возвращения домой.
В доме — «в этом свинарнике», молнией сверкнуло у Турина в голове — было холодно, нетоплено, грязно, на кухне даже свободного местечка не нашлось, чтобы осторожно положить ребенка; сейчас, как и в тот раз, повсюду — на стульях, на столах, на кроватях — валялись журналы, провода, инструмент. В конце концов Турин, одной рукой сдвигая с кровати какой-то хлам, уронил на пол ватерпас, громкий стук разбудил Гари, да так неожиданно, что мальчонка напустил в штаны; его будто прорвало от уймы углекислоты и сладкого шоколада. Гари неистово брыкался, угодил ногой Турину в лицо, а тем временем запашок и теплая влага — больше ничего теплого в доме не было — пропитывали одежду.
— Тише, тише, уймись, — попробовал он успокоить Гари, но тот укусил его за руку. — Надо сходить на улицу, в нужник.
Когда же он с мальчиком на руках пересек темный двор, откинул крючок, поднял крышку, открыв непроглядно-черную дыру толчка, а дверь захлопала на ветру, Гари вовсе обуяла паника.
— Не бросай меня туда! — завопил он, со звериной силой цепляясь за Турина.
— Что ты, что ты, — сказал Турин, — просто посидишь на толчке, сходишь по-большому. Чтоб одежу не марать.
Но Гари отчаянно упирался, посадить его на толчок оказалось невозможно. «Да и смысла не было, — признал Турин в своем длинном и обстоятельном рассказе перед судом, — он уже все вывалил». — «Пожалуй, мы опустим эти подробности», — сказал обвинитель, кашлянув. «Как же опустим-то, — возразил Турин, — ведь эта дырка… я как увидел ее… так подумал, что не гожусь даже… couldn’t even wipe his ass…[62] стоял там и думал, что мне и накормить его нечем, кроме бобов да свинины… молока нету… ничего нету… все неправильно, вкривь и вкось… и эта дырка… вот там мне самое место… as if this hole was…[63]» — «Ответчик, будьте добры хотя бы изъясняться по-шведски», — перебил его обвинитель. «Yes, yes, yes», — простонал Турин, закрыв лицо руками.
В доме он кое-как стянул с мальчонки перепачканные штаны, кое-как дочиста обтер его экземпляром американского журнала «Пайлот» и укутал в собственную фуфайку. Завернул в одеяла, предварительно сняв залитые супом пододеяльники, растопил плиту, согрел воды, простирнул замаранную одежду, развесил на веревке над плитой, сел за кухонный стол и устремил взгляд на неподвижного Гари.
— Хочешь кофейку? — спросил он. «Но дети кофе не пьют, а об этом я не подумал, — продолжал он свой рассказ, и присяжные согласно кивнули. — Только вот что скажешь мальчонке, который даже не глядит на тебя? Хуже нет, господин обвинитель, когда ребенок тебя не замечает. Жизнь теряет всякий смысл».
И он сказал:
— Завтра поедем обратно к твоей маме.
«Если одежа высохнет, сказал я. Только она не высохла. В доме было сыро и холодно, самому-то мне без разницы, да и не для кого согревать тамошние стены». Вдобавок день был субботний. Магазины закрывались рано, и, когда он наконец собрался за покупками, торговлю уже прикрыли. Он боялся потерять ребенка из виду. Сидел на страже за кухонным столом, смастерил на пробу парочку глиняных зверушек, но Гари зверушки не заинтересовали. Он скулил, что хочет есть, но Турин все же сумел втюрить ему чуток бобов со свининой и морсом напоил, так что по правде-то волноваться не стоило. Вечером стало повеселее, Гари долго глазел на радиоприемники, на всякие клеммы, на инструмент и теперь примостился играть. «Вроде как затеялось что-то. Я было подумал, что мы поладим. Что он заинтересовался моими изобретениями. Что я, пожалуй, могу подойти к нему и поучаствовать в игре, запустить электрический генератор, очень уж нравилось ему на искры глядеть, господин обвинитель. Если б не искры эти, я бы точно открыл, когда постучали. Но дверь была заперта, занавески опущены, а мальчонке я зажал рот ладонью. Это мой единственный дурной поступок. Я бы с радостью открыл, потому что молотил в дверь и кричал мой племянник, Сиднер. Отец его уехал в Новую Зеландию, а мать, моя сестра, померла. И ничего у нас с Гари не заладилось, я все испортил, зажав ему рот, после он цельный вечер хныкал и ревел. Проголодался, должно. Да и простыл. Той ночью я вышел в нужник». — «Снова-здорово», — вздохнул обвинитель. «Когда не к кому прислониться, господин обвинитель, поневоле пробуешь молиться. Вот я и стал на колени, возле толчка». — «Ну-ну, — сказал обвинитель, — это мы, пожалуй, опустим». — «Не-ет, — возразил Турин, — коли единственное, к чему ты мог прислониться, готово исчезнуть… впадаешь в отчаяние… будто тебя подвели к самому краю тьмы…»