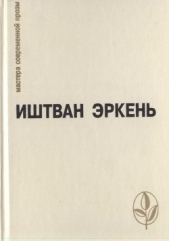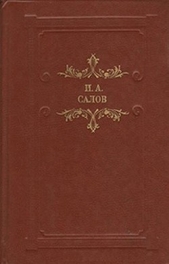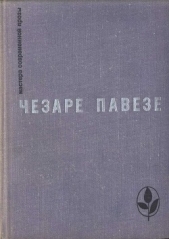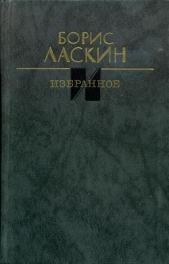Избранное
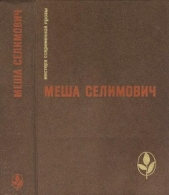
Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мысль о мятежнике придала мне мужества, меня охватило неодолимое желание двигаться, что-то делать, я испытывал здоровое волнение и тревогу: все выполнимо, все под рукой, нельзя никому уступать. Трудно — пока не решишься, тогда все препятствия кажутся непреодолимыми, все сложности — непобедимыми. А когда порвешь со своей нерешительностью, победишь свое малодушие, перед тобой открываются необозримые просторы, мир перестает быть ограниченным, полным угроз. Я рисовал в своем воображении смелые подвиги, находил массу возможностей для настоящей храбрости, обдумывал хитрые ходы, которые никто не сможет разгадать, я был взволнован и возбужден, хотя чувствовал сердцем, всеми извилинами мозга, какая это пустая мечта. Нет, не разум мой осмысливал это, искренне пестуя в сердце два столь противоположных желания. Мысли мои были ясны, я лишь пытался найти лучший способ, чтоб освободить брата. Это желание обуяло меня, трепетало во мне, как живое, и тем сильнее где-то внутри, словно смутный шепот из тьмы, словно очевидный факт, о котором не говорят вслух, не приемля его, утверждалась во мне уверенность, что такая операция не может оказаться успешной. Я призывал Исхака потому, что он был недосягаем. Я мог стремиться к нему, насколько у меня хватало сил, искренне, поскольку желание не могло осуществиться. Таинственный инстинкт, что оберегал меня помимо моего сознания, великодушно позволял мне проявлять благородство, не обуздывая его; ибо знал, что оно не представляет опасности, не может воплотиться в дело. Оно только помогает мне мстить за тот позор, который я пережил у муфтия.
Если это кому-либо покажется странным или даже невероятным, я смогу только возразить, что правда порой выглядит необычно и мы лишь убеждаем себя, будто ее нет, стыдясь ее, как напроказившие дети, хотя от этого она не становится ни менее живой, ни менее подлинной. Мы обычно украшаем свою мысль и прячем при этом змей, что копошатся в нас. Но неужели они не существуют, если мы прячем их? Я ничего не украшаю и ничего не прячу, я говорю, как перед богом. И еще я хочу сказать, что я не плохой и не странный человек, я самый обыкновенный, может быть обыкновеннее, чем мне этого хочется, как и большинство людей.
Добронамеренный читатель возразит мне: слишком ты тянешь, слишком мудрствуешь. Отвечу сразу: знаю. Я широко растягиваю одну убогую мысль, выцеживаю ее из пустого сосуда, из которого невозможно больше выцедить ни капли. Я делаю это нарочно, чтоб отодвинуть повествование о том, что до сих пор вгоняет меня в дрожь, спустя столько месяцев после всего. Однако увертки не помогают. Избежать не могу, а прерывать не хочу.
Надо упомянуть и об этом. Я разыскал ночного сторожа, он был дома, давно уже встал, даже вернулся из чаршии, но встретил меня хмуро и враждебно, словно только что проснулся. Не осталось и следа от той его ночной болтливости, от желания удержать меня, ни тени гостеприимства, ни любезности. Он стремился поскорее избавиться от меня. И разозлился, когда я спросил, что он хотел мне сказать вчера вечером.
— Что хотел, то сказал. Чего мне скрывать?
Неужели я ошибся? Я долго думал о том разговоре, и не столько о словах, сколько об их смысле. Он что-то наверняка знал обо мне. Я напомнил ему об этом, а он стал клясться всеми богами, что я его неправильно понял. Ночь есть ночь, а день есть день. Бог ведает, о чем он думал, болтая чепуху, и бог ведает, что думал я, слушая эту чепуху, и теперь вот вбил себе в голову даже то, о чем он и не думал. Что он знает? Что может знать человек, вопил он плаксиво, который всю ночь на ногах и едва может дождаться, пока доберется до своего убогого домишки, под свое драное одеяло. В это поганое время он кормит четыре рта, сам пятый, и хватит с него по горло своих дел, чтоб беспокоиться еще о чужих. А потом вдруг перестал горячиться и неожиданно спокойно, даже любезно сказал, что готов помочь мне больше, чем кому-либо другому, видно, меня гнетет какая-то беда, потому что иначе не пришел бы я к нему и не требовал бы сказать неведомое, он не знает того, чего я ищу. Да, судя по всему, я и сам не знаю.
Неужели услышал я вчера в его словах то, чего в них не было, или же с ним что-то случилось?
Я ушел, ничего не узнав: в самом деле, он был прав, не зная, что́ мне необходимо узнать.
После ичиндии, утомленный и взвинченный, измученный думами об освобождении брата, все более неосуществимом из-за непрерывно возникающих препятствий, что даже в мыслях побуждало меня отказываться от него, я расстался в конце концов с надеждой, пусть даже ложной, и смирился с тем, что отправлюсь завтра на повторную экзекуцию к муфтию. Я изнемогал, что-то во мне надломилось, меня изнурили мои воображаемые попытки, я даже подумал, что не был бы так обессилен, если б совершил все это на деле, а не провел время в ожидании.
Во двор текии вошли дети Мустафы, сперва они играли в камешки на плитах у входа, здесь же и поели, потом стали носиться, как щенята. Они прыгали через розовые кусты, топтали цветы, ломали ветки яблонь, кричали, смеялись, визжали, плакали, и я подумал о том, что нам придется оставить им текию и сад, а самим переселиться неизвестно куда. Несколько раз я прикрикнул на них, а потом позвал Мустафу и сказал, что дети мешают, слишком раскричались.
— Ждут ужина,— ответил он, недослышав.
Я повторил громче:
— Мешают. Скажи им, чтоб ушли.
— Двое моих, трое ее, прежде были.
Я показал рукой: выгони, не то я сойду с ума!
Уразумев, он ушел, осердившись, громко ворча:
— Теперь им и дети мешают!
Когда вопли утихли, я поинтересовался, что они натворили, надеясь, что повреждений будет больше, мне нужно было разозлиться, освободиться от мыслей, не оставлявших меня ни на минуту, и сел под ивой, у воды, искрившейся в лучах заходящего солнца.
От могучего ли желания вкусить покоя, от целебной ли тишины, наступившей после детского крика, или от всегда равномерного {4} течения речушки, отзывавшейся чуть слышным журчанием, напряжение стало ослабевать. Я даже ощутил голод, я позабыл, когда в последний раз ел. Что-то необходимо было съесть, это придаст мне сил, переключит внимание, но сделать этого я не мог, мне было неловко, Мустафа сердился, я прогнал его ребятишек, возможно, этого не стоило делать. Правда, я успокоился, тишина исцеляла меня, но все-таки я сокрушался. Правда, не слишком, и это хорошо, но хорошо и то, что я сожалею, значит, возвращаюсь к своим обычным думам, к будничной жизни, в которой человек бывает и добр и зол, в той мере, которая не мешает и которая, как принято считать, довольно-таки обыденна. Может оказаться скверным, когда человек не чувствует протяженности времени. На войне не до скуки, как и в беде, как и в страдании. Когда трудно, скучать не приходится.
Я находился в приятном состоянии, когда мысль легко скользит по поверхности, ее не искажают судороги, она не сталкивается сама с собой, едва касаясь сути явлений, находя легкие решения, которые ничего не определяют. Это не раздумья, но созерцание, нега, приятная леность мозга, а в ту минуту для меня ничего не могло быть полезнее. Нет, я ничего не позабыл из того, что было страшнейшей мукой моей жизни, я ощущал ее всем своим нутром, как камень, а кровь разносила мою скорбь по бесконечным сосудам, подобно яду, мука моя таилась в закоулках мозга, как спрут. Но в тот блаженный момент все стихло, как бы миновал приступ тяжелой болезни, пришло облегчение, и показалось, будто ее вовсе нет. Это недолгое отсутствие тяжести, минутное избавление от страданий, именно потому, что оно было кратким и мгновенным, я ощутил всеми клеточками своего тела, оно дало мне возможность спокойно оценить окружающее. И это свое невольное слияние с гармонией мира я воспринял почти как счастье.
Откуда-то вернулся хафиз Мухаммед, поздоровался и ушел к себе. Хороший человек, думал я, пребывая в блаженстве со своими неглубокими переживаниями, думая о пустяках: вот кажется, будто жизнь несправедлива к нему, но это только видимость, жизнь есть жизнь, одна подобна другой, каждый ищет радости, а беды приходят сами. Для него радость — в книгах, как для других — в любви, его беда — болезнь, как у других — бедность или изгнание. Мы все бредем от одного берега к другому по тонкому канату своей жизненной стези, и конец у всех один, разницы нет.