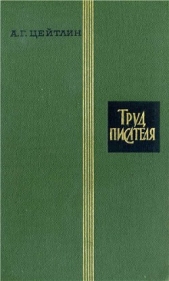Явление. И вот уже тень
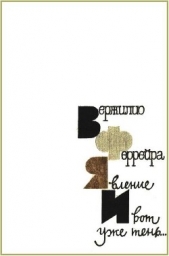
Явление. И вот уже тень читать книгу онлайн
Вержилио Феррейра — крупнейший романист современной Португалии. В предлагаемых романах автор продолжает давний разговор в литературе о смысле жизни, ставит вопрос в стойкости человека перед жизненными испытаниями и о его ответственности за сохранение гуманистических идеалов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну как, понравилось? — спросила меня Ана.
Я посмотрел на нее изумленным взглядом.
— И разошлись же эти дьяволы из Редондо! Что ни год, доктор, они все злее и злее.
— Когда мы, — спросил я, — двинемся в обратный путь?
— Как, уже в обратный? Нет, доктор, Каролино нас хочет угостить обедом.
Обедали мы в саду, в беседке, у входа в которую я встретился взглядом с Софией. Она задала мне ничего не значащий пустой вопрос, за которым крылось многое. Рябенький посмотрел нам обоим в глаза, побледнел, отчего на лице его заалели прыщи.
— Я чувствую себя неловко, — сказал я Софии. — Я считал, что все кончено.
— С Каролино?
Да какое мне было дело до этого? Я ж никогда не любил тебя, София. Я просто знал, что твой жизненный путь идет через меня, и я пропустил тебя. Мне знакомо твое отчаяние, знакомо по своим собственным тяжелым минутам: побороть тебя, побороть себя, излиться в чувстве, которое — рывок в никуда, в никуда… Я пытаюсь вспомнить тебя, София, вспомнить себя тогда, когда ничего не нужно было делать. Да, грех мой со мной, грех, который сродни напряжению-пределу, в котором я себя ищу, в котором все еще мечтаю увидеть себя самого и хочу все сжечь, все, что еще сохранилось от коросты, для того чтобы наконец открыть себя подлинного и чистого. Ты для меня — ничто, я это знаю, знаю. Ты не больше, чем обратное тому, к чему я стремлюсь, ты ярмарочное зеркало. И все же я ощущаю тебя около и рядом, живой, реальной, как крик от давней боли. Или, может, я бегу от тебя, как от справедливой кары, которая меня ждет? Ты прекрасна, София. Прекрасна, как отрава.
В Эвору мы возвращались затемно. Алфредо всласть напился и наелся, и его пунцовое лицо живо свидетельствовало об умиротворенности плоти. Мы сели в машины и двинулись. Алфредо сразу рванул вперед и тут же исчез. Горизонт светился где-то вдалеке, и я почувствовал, как во мне, словно после долгих переходов по пустыне, поднимается усталость. Что за музыку я слышу, Кристина? Включаю радио — звучит нечто механическое, я пытаюсь покрутить ручку — безуспешно, другие станции не работают. Я выключаю и молчу. Мадам Моура интересуется, понравился ли мне карнавальный кортеж. О, мадам, такое гнетущее впечатление, такое…
И вдруг на повороте, ведущем к спуску, нас встречают неистово машущие руками Шико и Алфредо. Я резко торможу, машину заносит в сторону, но потом мы останавливаемся. На их руках и лицах кровь, задыхаясь, они говорят, что в канаве справа стоит налетевший на дуб джип. Кристина? Ана? Что произошло? Что случилось? Мы обрушиваем на них град вопросов и быстро спускаемся вниз. Шико поддерживает мадам, которая тоже хочет спуститься, но одна не может. София бежит вслед за мной; последний вечерний луч света коронует отходящую ко сну землю. Ана держит Кристину на руках, отводит с ее лба, где запеклась кровь, мокрые волосы. Мертва? Нет, еще жива, дышит, но без сознания. Мы осторожно переносим ее в мою машину. Ана помогает нам молча, без единого звука или жалобы, садится сзади и прислоняет голову Кристины к своей груди, на которой тут же блузка окрашивается кровью. Мадам садится рядом со мной и кричит, кричит всю дорогу. На шоссе остаются Шико, Алфредо и София — они ждут попутную машину. Я трогаюсь с места и иду на большой скорости, отчего тело Кристины, разбитое тело Кристины все время вздрагивает. Ночь медленно опускается. Эвора далеко, Эвора далеко. Мадам то и дело оборачивается и кричит, кричит, задыхаясь от волнения. Ана вторит ей протяжным, идущим из нутра стоном. — Вдруг мадам садится прямо, закрывает лицо руками и плачет тихо, тихо. Я ничего не говорю, ничего не спрашиваю, безумно вглядываюсь в бесконечные прямые линии дорог и жму на акселератор, когда дорога мне кажется ровной. Окружающая тишина рвет мне душу, глаза заволакивают слезы. Но я прикладываю все усилия, чтобы быть полезным, чтобы довести, чтобы придать силы этой машине, что идет по нескончаемому шоссе и везет угасающую жизнь. Кристина, Кристина. Какой вечер, Кристина, голубой и розовый, поля готовятся к ночному отдыху. В полной темноте нет-нет да мелькнет память дня — отблеск солнца в окнах домов. Я зажигаю фары, но в этот закатный час с фарами только хуже, и я их гашу. Нас обгоняют едущие с карнавала праздничные машины. Но вот в висящем передо мной зеркальце я вижу и ту, что идет следом за нами. Пытаюсь увидеть сидящих в ней. Может, там София, Шико, Алфредо? Мадам покидают последние силы. Время от времени стонет Кристина. Когда мы почти свыклись с нашей болью, я осмеливаюсь сказать:
— Ана!
Она не отвечает. В моем зеркальце я вижу ее бледное лицо, но не вижу глаз. Длинная дорога не кончается, и мне кажется, что Ана все время смотрит вперед, смотрит на эту бесконечную дорогу, словно, кроме нее, ничего не существует, ничего, а только она, дорога, и это бегство по пустыне, обезумевшей пустыне… Я поглядываю назад; теперь я вижу, что машина, идущая следом за нами, везет Софию и всех остальных. Ночь вступила в свои права. Я зажигаю фары и теперь хорошо вижу. Мы едем по пустующим землям. Свежий ветерок, залетая в окно, приносит влажный аромат зеленеющих полей. Сколько мы еще проедем? Я смотрю на дорожные столбы — уже близко, уже близко. И вот на откосе, вся в огнях, светящаяся на фоне темного неба, возникает Эвора. В этот момент следующая по нашим пятам машина равняется с нами. София высовывается из окна, спрашивает о Кристине и говорит, что они едут вперед, к больнице, чтобы предупредить. И действительно, когда мы приезжаем, двое санитаров уже ждут нас с носилками. «Моура? Доктор Моура? Где он?» — спрашивают друг друга София и мадам. Мадам снова принимается плакать, как будто снова осознает случившееся, говорит: «В соборе». И опять я на пустынных улицах, но один, среди обрывков серпантина, вызывающих в памяти ушедшее и теперь уже умершее веселье. Я вхожу в собор и стою, оглушенный звуками, несущимися к сводам. Они, эти звуки, штурмуют стоящий в глубине строй свечей, а свечи придают торжественность звукам. Мир покорности засасывает стоящих в нефе людей, воскрешает в памяти тысячелетия и тысячелетия слепого повиновения, самоуничижения, самоотречения. Что это была за служба? Теперь я уже не помню, но тогда мне нужно было сориентироваться среди толпы поющих, которая не знаю, где кончалась, но поднималась от каменных плит пола, от хмельного ладана, от пилястр. Около меня оказался очень усердный человечек, похожий на ризничего или церковного служку. Я спрашиваю его о Моуре, говорю о несчастном случае с дочерью. Он ведет меня к хору. Моура поет, держа в руках листок. Уведомленный человечком, он перестает петь, смотрит на меня, идет ко мне. Мы тут же выходим, я коротко пересказываю случившееся, и мы устремляемся в больницу. Около дверей толпятся родные Кристины, я отступаю и иду бродить по коридорам. И вдруг память детства выдает мне, — конечно же, я знал праздник собора, — Моура искупал грехи карнавала.
Всю ночь я провел без сна, сидя в коридорах больницы и блуждая по ее закоулкам. Шико и Алфредо прошли врачебный осмотр — они отделались легкими ушибами. На рассвете я вошел к тебе, Кристина, и при слабом свете горевшей у тебя в ногах лампы увидел белое в золотом ореоле лицо и в какой-то миг — этого никто не видел, только я — твои пальцы, они лежали на откинутом пододеяльнике и чуть заметно двигались. Двигались слаженно, в усталом, все завершающем ритме. Складку пододеяльника ты воспринимала как клавиши и играла, играла. Ты играла для себя и для меня, Кристина. Музыка конца, хрупкая радость среди мрака ночи, среди безмолвия смерти. Но я тебя слышу, Кристина, слышу даже сейчас, здесь, в своем доме у горы, я, озябший от зеленоватого мартовского лунного света, один в простирающейся вокруг меня пустоте и в подстерегающей мои глаза влажной тоске…
На следующий день после похорон я пошел к Серкейрам. Я хотел поговорить с Аной, сказать ей кое-что, вернее, не сказать, а предложить себя, как сочувствующего ее печали, большей, чем печали кого-либо другого, хотя бы потому, что она не проронила ни слезинки. Ведь ночью у себя дома я в полной тишине обдумывал случившееся и, перебирая в памяти все с первого дня моего появления в Эворе, вспомнил ту особую, почти тайную страсть Аны к сестре и слова, так и оставшиеся мне неизвестными, что сказала она Кристине в тот день, когда я впервые услышал ее игру. Вспомнил я и несчастье Аны — утраченную способность быть матерью, и то, как она молча, почти торжественно держала на руках Кристину и всю дорогу прижимала к груди ее голову, воображая себя матерью, о чем, видно, все еще мечтало ее существо.