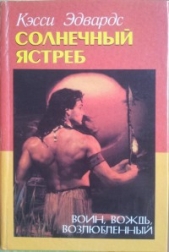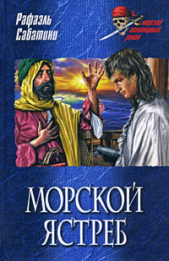Ястреб из Маё
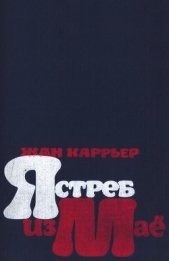
Ястреб из Маё читать книгу онлайн
Жан Каррьер — современный французский писатель (род. в 1928 г.). Его роман «Ястреб из Маё», появившийся в 1972 году, удостоен Гонкуровской премии. Действие романа происходит в одном из горных районов Франции. Суров этот край, и трагична судьба семьи Рейланов, поселившихся высоко в горах: не выдержав борьбы с природой, один за другим погибают отец, мать, старший сын.
На русский язык роман переводится впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда с отбором книг было покончено, она тотчас же его покинула, перенеся свое изысканное внимание на другого клиента. Жизнь утекала из него, как вода, поглощаемая песком; вдали от этого родника все обезвоживалось. Он всерьез вознамерился вернуться на родную ферму и умереть там вдали от жестокой цивилизации.
— Как тебе понравился книжный магазин? — спросил пастор, когда они покидали это место блаженства и страданий.
Жозеф, словно в изнеможении, произнес упавшим голосом нечто нечленораздельное.
— Я так и знал, что тебе понравится, — сказал пастор, истолковав жалобный писк Жозефа в устраивавшем его смысле. И безразличным тоном добавил: — Если все пойдет, как надо, ты, возможно, вернешься сюда на стажировку в октябре и пробудешь несколько недель.
Звук, который услышал пастор в ответ, походил, как близнец, на предшествовавший, но внимательное ухо могло бы различить, что это было нечто диаметрально противоположное, словно кровь, вновь заструившись по жилам осчастливленного от этой дивной перспективы избранника, породила красноречивый комментарий.
Ночь прошла ужасно (завтра они возвращались во Францию). Каждый раз, как он представлял себе округлые икры, бедра, грудь, всю эту горячую плоть, которая наливалась и дышала, это действовало на него, как сладостный яд: кровь, нервы разносили по всему его телу желание вкупе с утонченными страданиями. Он не был способен при своих слабых познаниях по части секса (всего лишь печальные, одинокие попытки) вообразить себе нечто конкретное, связанное с девушкой; ему просто-напросто хотелось съесть ее.
Когда он думал, лежа в постели: я проведу здесь какое-то время среди этих девушек, — у него всякий раз возникало такое чувство, словно бы кто-то пинком швырял его в бездну: неистовая спазма отчаяния, сведенный от страха живот, какая-то судорога внутри, нечто среднее между заворотом кишок и тем странным пощипыванием, двусмысленным и нездоровым, которое предшествует волне наслаждения.
Потом он чувствовал, как ледяная струя охлаждала его перенапряженный мозг, приглушала его восторги: пастор сказал: «если все пойдет, как надо» — эти-то слова и гасили безжалостно все надежды и весь его пыл. Сейчас апрель. Он считал по пальцам. До восшествия в рай целых шесть месяцев. Шесть месяцев на то, чтобы стать мужчиной и окончательно завоевать расположение мосье Бартелеми; надо удвоить усилия; не отвлекаться по пустякам; отделаться от некоторых тягостных обязательств, которые теперь уже вовсе не совместимы ни с новыми его знакомствами, ни с тем крутым поворотом, который наметился в его жизни. Брат. Мать. В особенности — брат. Только представить себе, как он входит в это земное святилище, в эту бонбоньерку, наполненную такими конфетками! — на ногах башмачищи, вид нелепо солдафонский: «Как ноги таскаешь, Жозеф?» Он весь покрылся холодным потом. Что он скажет своим, вернувшись? Сразу — ничего; лучше помалкивать, хранить все в секрете; зато потом его победа будет полнее, произойдет словно взрыв. Конечно, его будет распирать от желания рассказать, рассказать о чем угодно, лишь бы это имело хоть отдаленное отношение к ней: о Вильгельме Телле, Жан-Жаке Руссо, о молоке «Нестле»; столько ширм, за которые можно спрятаться и надышаться кислородом в этом презренном домашнем кругу, не переносимом для влюбленного, которому необходимы цветники и розы. Первое проявление воли — научиться превозмогать ребячество. В себе самом все эти полгода будет он черпать силу, мужество, волю, в себе самом улавливать Ее запах, Их запах, запах этого города, запах Швейцарии, потому что все ведь взаимосвязано, да еще прибавьте высочайшее наслаждение человека, который, найдя сокровище, хранит его для себя одного, а это и доказывает, что есть характер — залог успеха.
От нетерпения, как бы уторапливая события, он брыкался в постели, вертелся, переворачивался. Временами он прислушивался — ему казалось, что по коридору отеля кто-то бродит: разве нельзя предположить, что одна из продавщиц книжной лавки, блондинка (та самая), брюнетка или рыжая, не все ли равно, узнав его адрес и то, что он завтра покидает Швейцарию, пришла сюда среди ночи под каким-то благовидным предлогом… О, бог вседержитель! Надо, чтоб вышло! И выйдет… Жозеф успокаивался. А все же эти девушки… Они другой расы, такие здоровые, юные. Видно, люди здесь не стареют: они бессмертны, как и в Америке. Невозможно было представить себе, что эти дива дивные, одетые девушками, делают пипи… Ах, отмыться, прижаться к этому божественному телу, поглотить его или быть им поглощенным… И все вращалось по тому же кругу.
16
Вновь наступила жара, и первые ее волны разлились по селениям и городкам; кто проходил по селу благоуханным, теплым утром, тому думалось, что он все еще нежится в постели, а при взгляде на необъятность небес, широко разверстых навстречу миру и суливших исполнение всех желаний, обновленная кровь начинала по-юношески быстро струиться по жилам; но уже с полудня наступал смущающий и даже пугающий своей чувственностью обманчивый летний зной, а проникающий в окно острый запах разогретого асфальта как бы предвещал какое-то похождение, которое заранее обрекает на тщетное ожидание и одиночество. Исполнения каких обещаний можно ждать от этих вымерших городков, от этих безмолвных гор? На какое похождение, какое приключение можно надеяться в жужжащей удушливости полудня, когда все ставни закрыты, а ты распростерт в полутьме, словно старая узница, которая лишь представляет себе объятия, лепет, задыхающиеся вздохи любви, тогда как сама горько и неколебимо уверена, что ничто в мире не сравнится с ее неудачами и тщетными надеждами, тем более спесивая сухость мыслей или опыта. Чуткое ухо следит за звуком приближающихся и удаляющихся шагов: хоть кто-либо остановится здесь когда-нибудь? Как умудряются, при непристойном, гугенотском своем пуританстве, встретиться и соединиться в постели все эти мрачные супружеские пары Горного края? Рожденные для смерти, рожденные для разложения. И пока ты агонизируешь, лишенный ласки, существуют ведь люди, предающиеся любви, — до чего же несправедливо все устроено в мире!
Вокруг маленького городка, крыши которого приобрели под прямыми лучами свинцовый цвет, не отыскать и пятнышка зелени — ни одного вновь посаженного дерева, ни одной свежевскопанной, радующей глаз клумбы: из-за суровости и резкости климата этот обездоленный край, где и весна запаздывает, и ее блага, как перезрелый плод, снимают не вовремя, тащится в хвосте у всех времен года, и характерны для него лишь желтые, лысые склоны, облезлые леса да необитаемые, похожие на ржавое железо кусты.
При нынешней преждевременной жаре горы с пятнами снега на вершинах и шелудивыми, обезлесевшими (или это только так кажется) склонами напоминают бесплодную скудость терриконов гигантских шахт, а придавленная желтая трава — злосчастную индустриальную зону с ее пустырями, угольными кучами, густо заселенными долинами и загрязненными водами; все усиливает впечатление нищеты и низменной утилитарности: обилие электрических столбов, беспорядочное переплетение проводов, уродующих пейзаж, обезображивающих поселки и фермы, грязнящих фасады домов; огромные цистерны с гудроном марают кое-где уцелевшие по обочинам полосы дерна; кучи гравия громоздятся на пустырях и стоянках для машин; застывшие, словно трехногие чудища Уэллса, пораженные смертоносной эпидемией, стоят грейдеры, неподвижность которых объясняется всего лишь нехваткой смазочного масла; все это — неизгладимые меты, наносимые работами ведомства шоссейных дорог, которое превращает живую природу в строительную площадку; не будем уж говорить о валяющихся повсюду выкрашенных суриком канализационных трубах; а есть ведь нечто и похуже: крыши из толя такие жалкие и столь же непристойные на вид, как человек, разгуливающий в подштанниках по улице. А чего стоят эти игроки в мяч в майках и ночных туфлях, а их развязный жаргон, их неряшливость, их фальшивое добродушие, которое не сможет скрыть ни подлости их, ни мелочности, ни эгоизма… От них самих и от их дыхания несет никотином и анисовой водкой… А их усатые старухи плетутся на рынок, шлепая стоптанными туфлями без задников, зажав в руке кошелек и вечную клеенчатую сумку, — почему бы уж заодно не ночной горшок: ведь и то и другое неотъемлемая сущность их бытия. Что касается девчонок с их нелепыми именами, провонявшими нафталином, то они, затянув туго-натуго волосы, обряжаются в длиннющие черные юбки и наглухо прячут свои плоские груди… Все эти Терезы, Марты, Элизы с пяти лет уже маленькие старушки, у них хилые икры, близко посаженные глаза и безгубые рты; налицо все признаки вырождения, свойственные детям от браков между близкими родственниками, а маленькие жемчужинки в проколотых ушах и вовсе делают их похожими на юных покойниц; до двадцати лет они еще могут на что-то надеяться, при условии, что их не тронут, а к двадцати пяти годам оказываются с двумя детьми на руках… Весна их быстротечна; надо видеть, как перебегают они улицу, заливаясь скотским смехом, который обычно свидетельствует о рабском подчинении сексу: голова вся в бигуди, жирные ляжки видны из-под распахнувшегося халата… До чего же ненавидел теперь последыш из Маё эту вымирающую, вырождающуюся расу, меченную базедовой болезнью и ранним выпадением зубов…