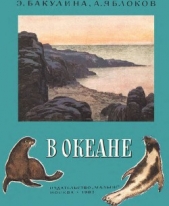Нагльфар в океане времени

Нагльфар в океане времени читать книгу онлайн
Он смог целиком вспомнить «Антивремя», роман, который конфисковали при обыске кагэбэшники до последнего листика черновика. Вспоминал он в Мюнхене, где нашел кров вместо Израиля, назначенного андроповцами: «Либо на Ближний Восток, либо на Дальний!» За что был изгнан? За «Запах звезд», книгу рассказов, ее издали в Тель-Авиве; за «Час короля» — за повесть в тамиздатском «Время и мы», да за статьи в самиздатском «Евреи в СССР». «Признайтесь, вы — Хазанов?» — «Нет, не я. У меня фамилия и псевдоним другие». К допросам ему было не привыкать. У «Запаха звезд» не было шанса выйти в России: автор рассказывал там о сталинском лагере, жутком Зазеркалье, в котором ему довелось провести пять с половиной лет своей жизни. Этот документ правдив и беспощаден — он не только о лагере, где томится человек, но и о лагере, что Те возводят в его душе. Тема не для брежневского соцреализма, потому книгу пришлось печатать Там, брать себе новое имя, а когда оно зазвучало — твердить, что знать не знаешь Бориса Хазанова, слава его — не твоя слава. Иначе — 70-я статья, Дальний Восток. И ему пришлось уехать. В Мюнхене Борис Хазанов десятый год. Редактировал журнал, пишет книги. Все они теперь уже изданы дома, где их главный — думающий на одном с их автором языке — читатель. Его последние роман и повесть перед вами. Мир будней в них укрыт флером фантазии, этим покрывалом, что может соткать лишь он.
"Нагльфар в океане времен" — это роман о фантастике обыденной жизни в сталинской Москве 1939 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
50. Совесть — ампутированная конечность
Вечный Жид прибивал набойки, а что тут, собственно, удивительного? За тысячу лет его профессия не изменилась. Скажут: этого быть не может, откуда писателю, народному человеку, было знать о древней легенде? Если бы наше повествование было вымыслом, мы отбросили бы с презрением этот неправдоподобный мотив. Но жизнь — не выдумка и может позволить себе быть неправдоподобной. Воистину жизнь пошла такая, что впору схватиться за голову.
В конце концов можно было бы сослаться на мозговую травму, полученную писателем доносов под Перекопом, можно было бы указать и на некую общую травму истории. Думается, есть основания говорить об особом, психиатрическом аспекте эпохи. Если можно было уверовать в мировую революцию и миссию рабочего класса, в алюминиевые дворцы и золотые сортиры, в пролетарскую философию, в бедняцкую литературу, в массы и классы, а также в Божий замысел о русском народе, в Третий Завет и Третий Интернационал, если каких-нибудь тридцать или сорок лет назад был еще жив мудрец в зипуне, с нечесаной бородой, который открыл, что из коровьих блинов, комьев глины и ворохов гнилой соломы можно собрать и оживить всех предков, — то что же удивительного в том, что несчастный, нищий духом и немощный телом человек, алчущий и жаждущий правды, и поносимый, и плачущий, и гонимый за правду, что же удивительного, что он уверовал в Агасфера?
Следует указать на то, что миф нередко обязан своим происхождением игре слов. Помнится, кто-то в нашем дворе в самом деле окрестил подвального деда вечным жидом. (Слово «окрестил» выглядит здесь, не правда ли, несколько странно.) То есть имелось в виду то вполне прозаическое обстоятельство, что дед зажился. Пора было честь знать. Котельная, коль скоро она не использовалась по назначению, могла бы служить иным общеполезным целям; давно назревшая проблема прачечной требовала решения. Так рассуждала общественность, такова была позиция жильцов, наблюдавших, как дед курсировал из подвала в больницу и обратно.
Пишущий эту хронику приносит чистосердечные извинения, если в своих усилиях реконструировать прошлое он не сумел отделить факты от того, что так прочно срослось с ними, от слухов и сплетен, от легенд, клубившихся во дворе, как туман на дне оврага. Очевидно, что мы имеем дело с претворением житейского факта в мифологическое бессмертие. Заметим, однако, что писатель доносов не избежал парадокса, составляющего центральное противоречие легенды об Агасфере. Некоторые видят в нем парадокс самого еврейства.
Иерусалимский сапожник проклят и осужден скитаться за то, что не признал в Иисусе Христе Сына Божьего и Спасителя. Но самое явление странника есть неопровержимое свидетельство о Христе, ибо из всех живых, из всех, кто бредет по земле рядом с нами, он единственный, кто видел Его своими глазами.
Теперь вернемся к писателю: как человек новой, свободной эпохи он знал, что никакого Христа в природе не существовало, все это были поповские сказки. Но существовал котельный дед, сеятель религиозного дурмана. И этот дед, Вечный Жид, сидевший с колодкой и молотком, был тот самый жид, который, увидев Христа, вместо того чтобы помочь ему тащить его ношу или хотя бы посочувствовать, прогнал его прочь от своего крыльца. Убедительность этой версии в глазах писателя не страдала от того, что первый тезис противоречил второму. Ибо вера в роковую и губительную роль народа, который отверг Спасителя, долговечней веры в самого Спасителя.
Агасфер вечен. Но вечен ли тот, кто обрек его на бессмертие? Разве только благодаря самому Агасферу.
И если уж договаривать все до конца, то придется сказать, что автор письма мстил котельному жильцу, да, мстил, сам того не соображая, и не только за себя, но как бы и от имени наших сограждан. Мстил вечному деду за то, что он необъяснимым образом напоминал о Христе, о крестном пути и спасении, о том, что было выкорчевано из их сердец, но все еще жило и бередило их ампутированную совесть, несуществующую конечность, которая зудит и ноет к плохой погоде.
51. Сергей Сергеевич

Был летний вечер, один из тех вечеров, которые превращают наш город в лучшее место на земле; и радио передавало концерт песен. Песня о Волге. Ах, если бы вспомнить, кто написал эту радостную мелодию, тридцать восемь нотных знаков, в которых зашифрована вся наша жизнь, и детство, и синева прохладного каменного двора… если бы вспомнить! Мы собрались бы все, со всех дворов, сколько нас еще осталось, мы разыскали бы старое кладбище и древний памятник с полустертой звездой Давида, и повалили бы этот камень, и откопали бы композитора, и обняли, и расцеловали. Много песен о Волге пропето. Но еще не сложили такой! В то самое время, когда песня уносилась на волю из недр квартиры без номера, кружилась по двору, ныряла в открытые форточки, — в это же самое время новейший ламповый радиоприемник «Родина» распевал на столе у Сергея Сергеевича, и хозяин поднимал глаза от бумаг и, берясь за телефонную трубку, подпевал певице. Красавица народная. Широка, глубока, сильна.
Тот, кому довелось узнать, знал, а кому не положено было, не знал, что назначение комнаты рядом с кабинетом управдома не вполне отвечало вывеске на дверях. Начертано было: «Эксплуатационная. Посторонним вход воспрещен», тогда как лишь вторая фраза ясно выражала волю того, кто повесил вывеску, хотя опять-таки было неясно, кого считать посторонним. На самом деле за дверью никого не было. Стоял стул. Окно было замазано белой краской. На стене висел плакат: вступайте в Осоавиахим. Тот, кто должен был сидеть в комнатке, ожидая вызова, мог слышать слабо доносившуюся музыку, мог составлять комбинации из букв, входящих в слово «Осоавиахим», или пытаться угадать, что оно вообще означает. В комнате находилась другая дверь, обитая поддельной кожей и обрамленная валиком, за ней еще одна дверь, и она-то и открывала покой, где происходило действие, недоступное посторонним, кто бы ни подразумевался под этим словом; там, за просторным столом, перед телефоном и радиоприемником, сидел Сергей Сергеевич.
Именно так он звался: не товарищ такой-то, не сотрудник такого-то отдела и вообще не сотрудник. Все отделы и полномочия и существовали, и как бы не существовали. Все звания были секретными, все обращения в этом роде были бы неуместны. А просто Сергей Сергеевич. Назывался ли он тем же именем там, где носил не пиджак и косоворотку, а длинную, до колен гимнастерку, крылатые штаны и шпалу в петлицах? Этого никто не знает. Если правда, что имя — это магический ключ к потаенной природе вещей, то правда и то, что со сменой имени меняется нечто в его носителе — имя открывает доступ к человеку, но и окутывает его тайной, наделяет властью, принадлежащей не ему, но как бы данной ему в пожизненное пользование; имя заслоняет человека, как щит; имя придает значительность незначительным чертам и заставляет нас погружаться в темный смысл слов, даже если они так же будничны, как предложение закурить. Словом, имя есть нечто большее, чем способ окликнуть человека, чем средство коммуникации, — а может, и вовсе им не является.
Иногда Сергей Сергеевич выходил из своего убежища спросить спичку, вообще же появлялся не каждый день, порой засиживался над бумагами до поздней ночи, и непонятно было, жив он там или умер, а бывало и так, что по целым неделям «эксплуатационная» стояла запертой, как вдруг оказывалось, что хозяин у себя на месте, пьет чай, закусывает бутербродом с семгой и принимает гостей. В обхождении Сергей Сергеевич был прост.
«Ну, как жизнь молодая, Семен Кузьмич?»
«Старость не радость, Сергей Сергеич…» — и разговор обыкновенно переходил на медицинские темы.
«Вот и я мучаюсь. Поясницу не разогнешь».
«В отпуск пора, Сергей Сергеевич. Надо и о себе подумать».
«Да где там. На нашей работе отпусков не бывает». «А вы бы взяли за свой счет».