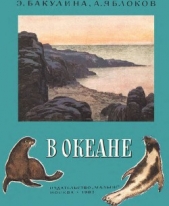Нагльфар в океане времени

Нагльфар в океане времени читать книгу онлайн
Он смог целиком вспомнить «Антивремя», роман, который конфисковали при обыске кагэбэшники до последнего листика черновика. Вспоминал он в Мюнхене, где нашел кров вместо Израиля, назначенного андроповцами: «Либо на Ближний Восток, либо на Дальний!» За что был изгнан? За «Запах звезд», книгу рассказов, ее издали в Тель-Авиве; за «Час короля» — за повесть в тамиздатском «Время и мы», да за статьи в самиздатском «Евреи в СССР». «Признайтесь, вы — Хазанов?» — «Нет, не я. У меня фамилия и псевдоним другие». К допросам ему было не привыкать. У «Запаха звезд» не было шанса выйти в России: автор рассказывал там о сталинском лагере, жутком Зазеркалье, в котором ему довелось провести пять с половиной лет своей жизни. Этот документ правдив и беспощаден — он не только о лагере, где томится человек, но и о лагере, что Те возводят в его душе. Тема не для брежневского соцреализма, потому книгу пришлось печатать Там, брать себе новое имя, а когда оно зазвучало — твердить, что знать не знаешь Бориса Хазанова, слава его — не твоя слава. Иначе — 70-я статья, Дальний Восток. И ему пришлось уехать. В Мюнхене Борис Хазанов десятый год. Редактировал журнал, пишет книги. Все они теперь уже изданы дома, где их главный — думающий на одном с их автором языке — читатель. Его последние роман и повесть перед вами. Мир будней в них укрыт флером фантазии, этим покрывалом, что может соткать лишь он.
"Нагльфар в океане времен" — это роман о фантастике обыденной жизни в сталинской Москве 1939 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тот, кто предположил бы, что дом, разрушенный бомбой в первые дни войны, но запомнившийся бывшим соседям своим особенным узором вокруг окон, что этот дом со всем его населением, старыми и малыми, являл собой представительный фрагмент тогдашнего общества, был бы прав и не прав. Конечно, он был «фрагментом», то есть обломком, — но обломком того, чего уже не было. Приходится выражаться столь неопределенно, так как в истории народов бывают, по-видимому, эпохи, когда любые общественные сдвиги и веяния, любые «шаги» влево, вправо, назад или вперед лишь убыстряют начавшееся разложение. Этому обществу, которое ко времени нашего рассказа уже погрузилось на дно баснословного прошлого (отчего оно стало казаться какой-то Атлантидой блаженных), одинаково шли во вред и реформы, и противодействие реформам, и реакция, и прогресс. Все ускоряло его гибель: речи депутатов в новоиспеченном парламенте, как и самая идея парламента, глупые резолюции венценосца, он сам и вместе с ним тысячелетний институт монархии, вольнодумство, но также охранительная идеология, бюрократия и анархия, православие и атеизм, наука и суеверие, косность крестьян, алчность едва успевшей вылупиться из цыплячьей скорлупы буржуазии, глухая злоба рабочих и духовный авантюризм интеллигенции. Как одряхлевший организм равно страдает и от плохой, и от хорошей жизни, и от солнца, и от дождя, так обреченное общество проигрывало от любой попытки поправить дела и нуждалось в последнем толчке — или в последнем усилии поддержать хворого инвалида, — чтобы свалиться в могилу.
Нечто вознесшееся над его останками, подобное юной кладбищенской растительности, носило название коллектива. Коллектив заменил общество. Но он оказался еще менее жизнеспособным. Общество мыслилось как сумма социальных групп и в конечном счете — людей. Коллектив притязал на первичность. Люди должны были возникать как бы из него. Ко времени нашего рассказа коллектив был не чем иным, как умирающей мифологией. Но в отличие от общества он доживал свои дни не в зажившемся прошлом, а в дряхлеющем будущем.
И в этом было все дело. В этом было нечто окрыляющее! Алый полог зари за громадами серых зданий! Их всех, все население дома и окружающих улиц, ожидало счастливое будущее, чудесный гость уже ехал навстречу и раскрывал им объятья. Положим, он был еще далеко, если смотреть вперед; если же сравнивать с пережитым — совсем близко. В тысяча девятьсот… ну, скажем, сорок пятом или сорок девятом году переселят в громадные алюминиевые дворцы посреди зеленых просторов. И этого дома, и этого города больше не будет. Будет не город и не деревня, не лес и не поле, а один громадный парк культуры и отдыха; между клумбами с резедой будут стоять футболисты с мячами и девушки с веслом. Не будет очередей в магазинах, и не надо будет готовить обед. Всё будут делать фабрики-кухни. Все будут сидеть в лучезарных столовых. Матери в светлых кофточках, в красных косынках, где-нибудь на большой эстраде, словно оркестранты в саду, будут кормить румянощеких младенцев из полных грудей. А на другой эстраде народы Советского Союза будут исполнять национальные по форме танцы.
45. Историк как фаталист. Графологическая экспертиза эпохи
«Тащи клей!»
Добыча была свалена в угол, рядом с батареей центрального отопления. Сообщник помчался наверх.
«И ножницы!» — донесся ее голос. Он вернулся, неся канцелярские принадлежности. Требовалось отсечь край конверта, вытряхнуть содержимое и заклеить конверт. Он выглянул наружу: туман окутал фонари. Теперь — рывок, головой вперед, как спринтер, как боец выбегает из окопа навстречу смерти или как вываливается из самолета парашютный десант под пристальным взглядом командира.
В одно мгновение он на углу, на противоположной стороне переулка, и запихивает пустые конверты в щель почтового ящика. Почему-то они считали, что так будет надежнее замести следы, чем выбрасывать все вместе, письма и конверты, в решетку для стока воды. Однажды его застукали. Грозный голос: «Ты что тут делаешь, а?!.» Человек поднял белеющий на земле конверт, повертел, опустил в ящик. Мальчик влетел в подъезд. Она стояла спиной к батарее, улыбаясь таинственной улыбкой. Цокая подковками, мимо подъезда промаршировали сапоги и затихли. Прошуршала машина. Оба сидели рядом на корточках, не сводя глаз с двойного тетрадного листа, потом опустились на пол, завороженные видом бегущих строк, словно разгадывали перехваченные донесения или манускрипты давно умерших людей.
Вспоминая вечера в парадном у батареи центрального отопления, еле теплой, если нам не изменяет память, темные осенние вечера в обществе девочки, в магнетическом поле тайны, влюбленности, преступления и страха, автор спрашивает себя, отчего получилось так, что кое-что из похищенного имело столь непосредственное отношение к дальнейшим событиям и судьбе действующих лиц. Конечно, вероятность таких совпадений была не так уж мала. Но почему именно эти письма оказались у похитителей, словно, лежа в ящике, ждали, что их увидят чужие глаза?
Так по крайней мере выглядит связь событий в воспоминаниях. Разумеется, письма вскрывались наугад; попались одни, могли попасться другие. Но можно ли утверждать, что то, что подсказывает память, то, что она вытаскивает из вороха прошлого, — результат такого же непредумышленного отбора? Прошлое — это всегда лишь знание о нем, и оно заключает в себе знание о том, что случилось позже. Оно, это якобы ожившее прошлое, изменяет себе, потому что задним числом придает значение тому, что было чистой случайностью, и угадывает присутствие рока там, где о нем никто не подозревал. Условие преемственности навязано летописцу: как бы ни были далеки от него действующие лица, он их потомок, то есть знает, что было потом; понимает ли он, что это знание расставляет ему ловушку? Когда историк вкладывает в уста Периклу речь над павшими, он заставляет его говорить так, как великий афинянин должен был, по мнению историка, говорить в те времена, когда он жил. Но на самом деле перед нами Перикл, который не только жил, но и продолжает жить, Перикл, который вернулся из будущего, Перикл, знающий о том, что будет дальше и которому ведома связь времен.
Другими словами, величие исторического деятеля отброшено в прошлое всезнанием историка, у которого есть одно, но решающее преимущество: он досмотрел пьесу до конца. И он обходится с прошлым, как с черновиком; он присваивает событиям «историзм», чуждый им, когда они еще были в собственном смысле событиями, и навязывает им причинность, которая всего лишь — функция времени. Вот я сижу и вспоминаю сверстников и соседей. Но я знаю то, чего они не знают: мне ведомо, что их ждет. И если я некоторым образом вновь оказался там, во дворе с застоявшимися запахами еды, гниющих отбросов, накрахмаленного белья, вынесенных для проветривания подушек, и сижу в подъезде, и выбегаю на улицу, и тащу из дому клей, и вновь выбегаю под неумолимым взглядом черных косящих глаз девочки, — то я притащил туда, в это прошлое, и свою память, я знаю, что будущее предопределено.
Но до чего все же въедлив, навязчиво-добросовестен, педантичен этот хронист, с какой цепкостью держится память за то, что она сочла достойным увековечить! Почерк писем. Сидя друг подле друга на каменном полу, заговорщики вперяются в загадочные письмена. Как жесты и мимика говорят подчас больше слов, так почерк выдает нечто более существенное, чем минутное содержание. Глядя на эти послания из одной неизвестности в другую, листы, вырванные из школьных тетрадок, исписанные и исчерканные синими, зелеными, фиолетовыми чернилами, химическим карандашом, пером рондо, пером-селедочкой, пером 86, строчки, выведенные судорожно сжатой Щепотью, когда пальцы чуть не касаются пера и оставляют тонкий мелкопетлистый след, так называемый острый дуктус, [17] или начертанные мягко и размашисто, длинной хваткой, тестовидным дуктусом, с аркадами и гирляндами, с закрытой или открытой позицией, с двойной угловой связью, строки медленные и стремительные, изломанные, дугообразные, похожие на развившийся локон, на растянутый моток проволоки, на строй дворников с метлами и скребками, на процессию слепых, на парад насекомых… — глядя на эти письма и погружаясь в их магию, специалист, без сомнения, распознал бы в них нечто общее. Ибо если каждой эпохе присущ свой особый стиль, то это должно относиться и к почерку современников. Существует графология времени. От внимания знатока не ускользнула бы, например, характерная для той далекой эпохи манера писать вместо прописных букв увеличенные строчные: он справедливо усмотрел бы в ней готовность маленьких людей подчиняться большим людям, которые на самом деле тоже маленькие. В загибающихся книзу окончаниях строк, в этом желании во что бы то ни стало закончить слово, не перенося его на другую строку, он угадал бы жуткую, стесненную чувственность во мраке и тесноте коммунальных квартир, торопливое сладострастие, похожее на преступление, алчущее тайком утолить себя и забыться. Всматриваясь в письма темных людей, с типичной для этих лет тенденцией тщательно разделять слова, завершая их робким завитком, он без труда констатировал бы присущее всем и каждому желание свернуться, забраться в свою нору, укрыться в комнате с занавешенным окошком, сократить общество до размеров семьи, народ — до квартиры, государство — до масштабов единственного московского дома. Как детям этого дома достаточно было выйти из своего двора на улицу, чтобы очутиться в мире, где за каждым углом подстерегало насилие, где в подъездах таился грабеж, где обыскивали и раздевали до белья, на улицу, где задавали тон дети-мучители, дети-гангстеры, дети-штурмовики, где царили анархия и террор и властвовали вожди, где бушевала фашистская революция подростков, — так и взрослые чувствовали себя в тепле и покое лишь в комнате с засаленными обоями и стучащими ходиками на стене, где негде было повернуться из-за вещей, перекочевавших сюда из другого времени. Об этом бесследно сгинувшем времени оставили память твердые картонные фотографии, белые зонтики, прически, высокие воротнички, какие-то резные столики, о которые манерно облокачивались эти господа, наконец, надписи с кокетливыми заглавными буквами и роскошно веющим, витиеватым росчерком. Глядя и сравнивая, графолог определил бы подлинный почерк нового времени, руку, пишущую руками всех.