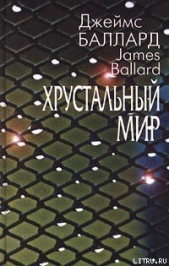Мистер Эндерби изнутри

Мистер Эндерби изнутри читать книгу онлайн
Реальность неожиданно и властно врывается в тщательно оберегаемое одиночество мистера Эндерби в образе энергичной журналистки Весты Бейнбридж. И вскоре лишенный воли инфантильный поэт оказывается женатым респектабельным господином без малейшей возможности заниматься тем единственным, что делает его жизнь осмысленной…
Энтони Берджесс — известный английский писатель, автор бестселлеров Заводной апельсин, Влюбленный Шекспир, Сумасшедшее семя, Однорукий аплодисмент, Доктор болен и еще целого ряда книг, исследующих природу человека и пути развития современной цивилизации.
Без остатка погружен мистер Эндерби в свои стихи, комплексы и страхи. Он с ними сжился и творит как сомнамбула в своем изолированном мире. Но жестокая циничная реальность вламывается в его святилище. И гений терпит поражение в мире, лишенном гармонии. От мистера Эндерби не остается ничего, кроме лучезарно-умиротворенного Пигги Хогга, мечтающего о говядине с толченой картошкой…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он несколько раз кивнул, стоя голым в дождливой Италии, думая, что всегда хотел иметь мать, а не мачеху, сам сотворил эту мать в своей спальне, создал ее из прошлого, из истории, мифа, искусства поэзии. Когда она возникла, то стала стройнее, моложе, больше похожая на любовницу; она стала Музой.
Молния вновь сотрясла твердь, потом, тщательно отсчитав, хохотавшие барабанщики адски грянули в звучные мембраны. Веста коротко взвизгнула, обхватила тело Эндерби и как бы попыталась в него втиснуться, будто он был ободранным кроликом большого размера, а она — горстью трясущейся фаршировки.
— Ну-ну, — сказал Эндерби, вежливо, но взволнованно: у нее нету права вносить в эту детскую спальню мачехины кошмары. Вдруг вспотел, прозревая тут больше простой боязни грома. Но все равно прижимал ее, гладил лопатки, думая, что по сути в несоблазнительной сердцевине такого голого контакта лежит сердечность: шлепок ладонью по попке; желейный звук двух влажных сегментов разъединившейся плоти. Она дрожала: воздух существенно охладился.
— Лучше бы вам, — сказал Эндерби, — лечь в постель.
— Да, — содрогнулась она, — да. В постель. — И потянула его к кровати, не ослабляя хватки, поэтому они проковыляли к ней в неуклюжем танце. Как только оказались в постели, на небе на мгновение вырисовался моток молнии, словно ошеломленный мужчина на фоне утеса, потом по всему небу грохнули барабаны через высокотехнологичные усилители. От страха она вновь попробовала в него втиснуться, в довольно мягкую вековую скалу; он чуял ее страх, знакомый, как чуть маслянистый запах одеяла.
— Ну, — опять сказал Эндерби, обнимая ее и поглаживая, успокаивая. Кровать была очень узкая. Это, непрерывно напоминал он себе, его жена, умная и желанная молодая женщина, пора под гром и дождь подумать о совершении, так сказать, о завершении, так сказать. Украдкой протянул руку вниз, чтобы выяснить мнение своего тела о таком заявлении, но там все было тихо, как если бы он спокойно читал Джейн Остин.
Дождь стихал, гром, раскатываясь и ворча, удалялся. Эндерби чувствовал, что ее тело расслабилось, стало как-то увлажняться, полниться ожиданием. Она все еще прижималась к нему, хотя грома нечего было больше бояться. Заржавевшие и медлительные механизмы Эндерби старались пробудиться и отреагировать на разнообразные, абсолютно не оригинальные стимулы желез, но существовали определенные трудности, тайные и постыдные. Эндерби сбивало с толку огромное число картин: давно он вот так не держал в объятиях женщину, но мысленно держал столько гурий одну за другой, одна другой красивей, пассивнее, сладострастнее, ни одна реальная женщина никогда даже близко не подойдет. Возможно, казалось ему теперь, если б сейчас тело в его руках стало — просто на двадцать-тридцать секунд — одним из тех гаремных мечтаний, откормленным, пухлым, умащенным, благоуханным, он наверняка смог бы выполнить свой прямой долг, оставляя в стороне все вопросы полученного удовольствия. Но тело его жены было худощавым и вовсе не пухлым. Эндерби отчаянным усилием вызвал жирный образ с отвисшими сиськами, понял, чей он, и с отрыжкой изображающего отвращенье ребенка с излишней поспешностью спрыгнул с кровати, встал, дрожа, на потертом половике.
— В чем дело? — спросила она. — Что такое? Плохо себя чувствуете?
Забыв о своей наготе, Эндерби, не ответив, метнулся из комнаты. Через две двери по коридору было написано «Gabinetto» [101], и он, снова переживая прошлое, вошел, запер дверь за собой. И в ужасе обнаружил, что уборная представляет собой не английский здоровый и комфортабельный ватерклозет, а континентальную дырку с поручнем по правую руку, с приделанным с той же стороны рулоном туалетной бумаги. Однажды, много лет назад, он в одну такую дырку упал. Теперь чуть не заплакал по старой приморской уборной, но, когда открыл дверь, чтобы выйти, слезы замерли при послышавшихся в коридоре итальянских женских голосах. Один, бросив мимоходом другому громкие приветствия, звучал теперь прямо у двери и дергал за ручку. Эндерби быстро заперся. Голос заговорил настойчиво, сообщив, насколько Эндерби понял, что его обладательнице отчаянно нехорошо, она не в состоянии ждать слишком долго. Он уселся на краешек низкого седалища с дырками, повторяя:
— Уйдите, уйдите, — и, как бы спохватившись: — Io sono nudo, completamente nudo [102], — гадая, правильно ли выражается по-итальянски. Правильно или нет, голос умолк, видно, проследовав дальше по коридору. Совсем голый Эндерби устроился в позе мыслителя, чувствуя себя хуже некуда.
5
Подобно арабскому вору, хоть и не столь увертливому, Эндерби пулей рванул назад в спальню. Веста сидела в постели, курила с мундштуком дешевую (или экспортную) сигарету, отчего выглядела голее, чем на самом деле, хоть это и, рассуждал Эндерби, невозможно.
— Ну что, — сказала она. — Собираемся мы разобраться со всем этим делом?
— Нет, — буркнул Эндерби. — Только не так. — Сел в углу с пристыженной физиономией на плетеный стул, ерзая, морщась на впившиеся в зад острые щепки. — Только, — сказал он, — не вообще без одежды. Это нехорошо. — Молитвенно сложил ладони, спрятав от курившей в постели женщины свои гениталии в предательскую клетку пальцев. — Я хочу сказать, — сказал он, — голым фактически ни о чем нельзя разговаривать.
— Кому вы это рассказываете? — с жаром встрепенулась она. — Что вам известно о мире? Я со своим первым мужем в лагере нудистов однажды была (Эндерби хмыкнул на неожиданную официальность «первого мужа».) где обычно бывали действительно выдающиеся мужчины и женщины, которые не испытывали никакого pudeur [103] насчет разговоров. И добавлю, — едко добавила она, — говорили не только на тему уборных, желудков и предполагаемой гнилости Римской империи.
Эндерби мрачно глядел в окно, видя, что дождь прекратился, июньское тепло, получив поощрение, ползком возвращается в итальянский вечер. Потом ему был дарован краткий образ жирной женщины-нудистки средних лет с отвисшим животом, с болтавшейся, как кишки, грудью, рассуждающей об эстетических ценностях. Это немного развеселило его, и он храбро обратился к Весте:
— Ну ладно. Давайте покончим со всем этим чертовым делом. Какую игру вы ведете, что скажете?
— Я вас не понимаю, — сказала она. — Не играю ни в какие игры. Просто сильно старалась, без всякой вашей помощи, брак построить.
— И ваша идея строительства брака сводилась к попытке втащить меня обратно в церковь? — уточнил Эндерби, жестикулируя одной рукой и при этом наполовину открыв гениталии. — Причем жутко трусливым способом. Ничего про свое католичество не сказали, вполне согласились на регистрацию, зная даже, что такой брак вообще ничего не значит.
— Ох, — подхватила она, — вы это признаете, да? Признаете ничего не значащим? Иными словами, признаете единственно стоящим католический брак?
— Ничего я не признаю, — крикнул Эндерби. — Говорю лишь, что совсем запутался, полностью, в происходящем. Я хочу сказать, мы женаты всего пару дней, а кажется, будто все изменилось. Вы же не такая, как раньше. Вы такой не были, когда мы жили в Лондоне в вашей квартире, правда? Тогда все было хорошо. Вы стояли на моей стороне, делали свое дело, работали, я — свое, все было приятно и мило, плевать на весь мир. А теперь посмотрите. Сразу после женитьбы, а минула всего пара дней, всего пара дней, не забудьте (взметнулись два пальца, пять остались на гениталиях), вы, черт возьми, изо всех сил стараетесь стать моей мачехой.
Рот Весты открылся и выпустил дым.
— Чем, говорите? Чем стать?
— Моей мачехой, сукой. Пока еще не разжирели, но, по-моему, скоро это случится. Бесконечно рыгаете, произносите «ох» и на меня кидаетесь, — ноете и ворчите, ворчите и ноете, — и проклятого грома боитесь, и хотите вернуть меня в церковь. Зачем? Вот что хотелось бы знать. Для чего? Из каких побуждений? К чему вы ведете? Что пытаетесь сделать?