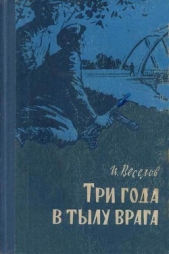Иной мир (Советские записки)

Иной мир (Советские записки) читать книгу онлайн
Автор описывает свое пребывание в лагерях ГУЛАГа, где он разделил судьбу десятков тысяч поляков, оказавшихся на территории Советского Союза в начале Второй мировой войны. Отличительная особенность "Записок" Г.Герлинга-Грудзинского заключается в том, что он не вынес чувства озлобленности против русского народа. Этот факт имеет важное значение для развития российско-польских отношений. Рассчитана на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из Мостовицы тем временем приходили печальные вести. Зэки, проходившие этапом через пересыльный барак, рассказывали мне, что старый профессор умирает с голоду, не моется, не бреется, не выходит из «мертвецкой», кроме как в часы раздачи еды и, выпрашивая милостыню на помосте у кухни, часто впадает в приступы голодного безумия. Но, когда пани Ольга за несколько дней до начала советско-немецкой войны получила от него грязный клочок бумаги, мы смогли убедиться, что силы его ума не до конца ослабли.
«Скажи, пожалуйста, Густаву Иосифовичу, - писал он, - что я понимаю теперь великолепно, каким хорошим соцреалистом был Кнут Гамсун».
НОЧНЫЕ КРИКИ
«Мы народ битый, - говорили они, - у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Достоевский. Записки из Мертвого дома
Хоть свет в бараках горел с сумерек до рассвета, у нас было развито отчетливое ощущение приближающейся ночи.
После работы и вечерней баланды у зэков оставалось еще два-три часа отдыха. Проводили их по-разному: одни, свесив ноги с нар, чинили свои лагерные лохмотья или писали письма на деревянных сундучках; другие отправлялись навещать знакомых; молодежь шла к женскому бараку; стахановцы, имевшие право пользоваться лагерным ларьком, сходились туда, чтобы проверить, не появилась ли случаем на пустых полках в темной каморке конская колбаса - единственный продукт, появлявшийся в продаже примерно раз в три месяца; больные готовились к походу в медпункт, а бригадиры в спешке заполняли последние ведомости для нормировщика. Во всем этом была одна общая черта - своего рода неуклюжее подражание жизни на воле. Внимательному наблюдателю это часто представлялось пляской теней, заимствующих жесты, рефлексы и навыки у прежней жизни и тем усерднее священнодействующих над формой, чем меньше в ней было содержания. Можно было услышать: «После ужина я всегда играл в шашки», - или:
«Моя жена всегда жаловалась, что я, как спать пора, у чужих печек околачиваюсь. Вот, привычка как привычка, на всю жизнь осталась». Подражание воле было, конечно, подсознательным, но без этого жизнь в лагере стала бы невыносимой, и никто, подчиняясь инстинкту самосохранения и защищаясь от безнадежности и отчаяния этим единственным способом, не задумывался, живет ли он в мире реальных явлений или призрачных грез. Можно спорить, насколько это было действительно естественной формой поведения людей, которые большую часть своей жизни прожили на воле, а не рефлексом самосохранения, искусственно выработавшимся у заживо мертвых рабов, но одно несомненно: неволю не понять, не приложив к ней мерки вольной жизни, пусть хоть самые искривленные и искаженные.
Впрочем, это описание относится лишь к небольшому числу заключенных, которые - как и другие, погружаясь в пучину лагеря - все же пытались выбраться из ее водоворотов и омутов, отчаянно размахивая руками. Большинство же - ужасающее большинство, в которое поначалу и под конец моей лагерной жизни и я входил, - если и слезали с нар, справившись с лагерной баландой, то разве что затем, чтобы заполнить пустоту в животе литром кипятка, стоявшего в углу каждого барака. Процесс распада был парадоксален: лень и вынужденная вялость приближали смерть, а неестественное оживление оттягивало ее на непредсказуемый срок. Можно было быть уверенным, что зэк, который, утопая, не только не делает ни малейшего движения, но, наоборот, в приступе голодного безумия вливает в себя бесполезный балласт кипятка, однажды ночью камнем пойдет на дно, а наутро рассвет выбросит на отмель нар его опухший, чудовищно раздутый труп. Если же его миновала смерть, подобная тому, как лопается переполненный мочевой пузырь, то он постепенно опухал, потом ненадолго возвращался к прежнему виду, чтобы наконец оказаться в «мертвецкой» рядом с такими же, как он, человеческими скелетами, обтянутыми кожей. Любопытно, что лагерная колея зэков, которые защищались от смерти хоть какой-то подвижностью, шла в противоположном направлении: сохраняя в течение нескольких лет довольно приличное физическое состояние, они вдруг начинали пухнуть и умирали чаще всего от голодного опухания, когда истощенное сердце было больше не в силах проталкивать кровь по растянувшимся в длину кровеносным сосудам.
Во всяком случае, в условиях жизни и работы, доставшихся зэкам в лагере, даже самая скромная дисциплина отдыха требовала огромного волевого усилия или таких приманок, которые были бы сильнее смертельной усталости после одиннадцати часов работы на пустой желудок. Для большинства возвращение в зону и возможность растянуться на нарах, чего так жаждешь весь день, были иллюзорной и самоубийственной формой подкрепления организма.
Вечером барак, лишь в некоторых местах опустевший, представлял незаурядное зрелище. На некоторых нарах зэки лежали неподвижно, только обувку скинув, и невидящим взглядом упирались в соседей напротив, не тратя сил ни на малейшее движение рукой или ногой; на других, беспорядочно полулежа, собирались кучки любителей поговорить - они-то и придавали бараку сходство с больницей, где даже в часы, свободные от лечебных мероприятий, люди разговаривают тихим, приглушенным шепотком; гости из других бараков собирались обычно либо у печки, либо на нарах у хозяев - на фоне полураздетых обитателей барака они выглядели здоровыми, пришедшими навестить больных. Неугасающий свет нескольких лампочек реалистически, но все-таки жутковато обострял эту картину. В ней было и какое-то спокойствие, и облегчение, и курящиеся пары усталости, и печаль принудительной изоляции. В атмосфере барака, казалось, был утешительный оттенок временности. Отблески огня в печурке матово отражались в оконных стеклах - белых изнутри, хрустально черных снаружи. Если глядеть от двери, можно было принять нагроможденные на нарах лохмотья за неприбранные постели, а портянки, сушившиеся на глиняном своде печки и на веревках, протянутых между поперечными балками потолка, - за свежевыстиранное белье. Страшно выглядел не барак. Страшно выглядели его обитатели, если пойти от двери вглубь и ловить по дороге взгляды, в которых тень смерти - как в палате неизлечимых - уже изготовлялась к полету на крыльях ночи. Ибо зэки, редко спускавшиеся с нар после возвращения с работы, обладали очень точным ощущением надвигающейся ночи и ожидание ее отсчитывали учащенным сердцебиением.
Помню, в первый мой лагерный вечер я еще на минутку вернулся в барак с медпункта и остановился, потрясенный выражением лица старика, который сидел у печки полураздетый и кочергой помешивал в очаге. Его морщинистые, дряблые щеки почти падали на линялую метелку бороды, открывая взгляду огромные горящие глаза сумасшедшего. Не сумею уж точно сказать, что за выражение в них было, но и теперь я не могу преодолеть ощущение, что заглянул в глаза живому мертвецу, человеку, который давно уже умер, хотя его иссохшее сердце все еще бьется в пустом мешке тела. В них было не отчаяние перед подступающей смертью, но безнадежность жизни, вопреки всему продолжающейся. Хорошо говорить о надежде тем, кто чего-то ждет от будущего, но как вдохнуть ее в человека, слишком слабого для того, чтобы собственной рукой положить конец страданиям? Как втолковать эту единственную в неволе привилегию свободного выбора человеку глубоко религиозному, который даже в своих мольбах о благословенной смерти ждет ее как высочайшего дара небес? Все кончилось, все рухнуло, осталась лишь самая чудовищная пытка напрасной жизни, но вот эта рука, назначение которой, казалось бы, - угасить ненужное сердцебиение, вдруг бросает кочергу и как огненным мечом кладет широкое крестное знамение - от морщинистого лба через заросшую грудь до складок живота, подвязанных тонким ремешком. Воистину есть в жизни некоторых заключенных нечто неразгаданное и поразительное: похоже, их последняя надежда - на то, что в конце концов их убьет безнадежность, и, молча терзаясь этим нечеловеческим страданием, они высекают из него слабую искру надежды, приносимую мыслью о смерти. Их религиозность - не та, что у людей, которые веруют в мистическое искупление душ, утружденных земным странствием; их религиозность - это благодарность религии, обещающей вечный покой. Это религиозные самоубийцы, Христовы смертопоклонники, верующие в освободительную мощь погребения, а не в загробную жизнь. Смерть для них вырастает до размеров высшего блага, которого только и стоит дожидаться, ибо все остальное давно оказалось обманом. Быть может, пронзительность, с какой звучит для них этот благословенный обет, позволит легче понять их ненависть к жизни. Заключенные с мертвыми, горящими жутким огнем глазами ненавидят себя и других только за то, что, наперекор сокровенным надеждам, всё еще живы. «Мы умереть должны, - слыхивал я от них, - мы, навоз человеческий, должны умереть ради своего блага и славы Господней».