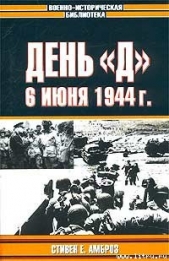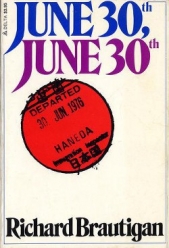Земная оболочка

Земная оболочка читать книгу онлайн
Роман американского писателя Рейнольдса Прайса «Земная оболочка» вышел в 1973 году. В книге подробно и достоверно воссоздана атмосфера глухих южных городков. На этом фоне — история двух южных семей, Кендалов и Мейфилдов. Главная тема романа — отчуждение личности, слабеющие связи между людьми. Для книги характерен большой хронологический размах: первая сцена — май 1903 года, последняя — июнь 1944 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сильви постучала костяшками пальцев по зеркалу, по имени.
— Если это, как ты говоришь, твое имя, значит, тот ящик тебе. — И снова указала вдаль — туда, где этим утром она своими глазами видела имя на посылке, что и давало ей возможность говорить с такой уверенностью. — Я же знаю, как твое имя пишется.
4
Ева отослала Сильви, постояла у кровати, спрашивая себя: «Что же мне теперь делать?» — затем вышла на лестничную площадку и прислушалась — потрескивание огня в камине, Ринино воркованье… Ева окликнула:
— Папа!
Мистер Кендал спал.
— Папа! — на этот раз более настойчиво.
Кеннерли сказал: — Ева тебя зовет. — Затем погромче: — Отзовись, пожалуйста, Еве что-то от тебя нужно.
Сверху ей было слышно, как отец проснулся, не спеша пошел к лестнице, потом его сдержанный голос: — Что тебе, дорогая?
Она дожидалась его на площадке, но когда он поднялся наверх и остановился, не дойдя до нее двух ступенек, она не смогла говорить. Губы отказали, и перехватило дыхание. Она повернулась и первой пошла в темноте в свою комнату, откуда сквозь приоткрытую дверь просачивался бледный холодный свет.
Он на миг замешкался, но последовал за ней, притворив за собой тяжелую дверь.
Ева подошла к своему стулу и остановилась. Ее лицо было освещено лампой снизу. Полотно, шелк для вышивания, пяльцы — все лежало на столике под лампой, на виду. Она не отводила глаз от отца.
Он выжидательно смотрел на нее, но она продолжала молчать, и наконец он сказал: — Мне уже недолго осталось по лестницам лазить, с моим ревматизмом-то. — Ему было пятьдесят четыре года. — Хотелось бы услышать от тебя что-нибудь такое, ради чего стоило сюда карабкаться.
И улыбнулся.
Ева хотела ответить улыбкой на его улыбку, сказать то, что хотела, но лицевые мускулы вдруг сжались и голос застрял в пересохшем горле.
Он не тронулся с места. — Что тебе наболтала Сильви?
Ева снова попробовала вернуть себе самообладание и дар речи, и снова ничего из этого не вышло. Тогда она начала медленно покачивать головой из стороны в сторону — испытанное средство для восстановления душевного равновесия, будто то ли воротом, то ли журавлем постепенно вытягивала голос из колодца — горла. — Ящик, который сегодня пришел, — на нем мое имя?
Он кивнул: — Твое.
— Где же он?
Отец подошел к спинке кровати, вынул из кармана часы, повернул их к свету, внимательно посмотрел на циферблат, потом поднял голову и улыбнулся. — Сейчас милях в тридцати к югу от Брэйси, если вечерний поезд идет по расписанию. Тот поезд, что идет на север.
— Ты отослал его назад?
— Я не принял его, — сказал он.
— Но почему? По какой причине? Там же стояло мое имя. — У нее прорезался голос; говоря, она все больше овладевала собой. Выражение отцовского лица изменилось не сразу. Улыбка додержалась до второго вопроса. К концу он стал серьезен, но абсолютно спокоен. Подождал, чтобы смолкли отзвуки ее голоса. Затем сказал: — Причина в тебе. Только в тебе. Что бы я ни делал, я делаю ради тебя. Ты ясно дала мне понять, что жизнь твоя здесь. После того как ты вернулась домой в то августовское утро, я ведь ни разу не спросил, что у вас произошло. Я понял, что ты рассталась с ним. И вот тогда, Ева, я задался целью помочь тебе отстоять право жить так, как тебе хочется. Все, что мне было нужно, это знак от тебя; я должен был знать, чего ты хочешь. Этот знак ты мне подала.
Она снова начала покачивать головой, на этот раз помимо воли; вслед за этим пришли слезы, крупные, горячие и беззвучные. Она вспомнила, что уже год, как не плакала, — последний раз на прошлое рождество, в неуютном доме Хэт, страдая по причине совершенно противоположной.
Ближе он не подошел, но сказал:
— Что же касается меня, — у него перехватило горло, руки безжизненно повисли ладонями наружу. Ева всматривалась в неясные очертания его ласковых рук и думала, что он никогда прежде не говорил шепотом, — такого она припомнить не могла. — Что же касается меня, то я прошу тебя со всей учтивостью, на какую способен, — останься! Для одного года я и так понес слишком много утрат.
Его лицо, освещенное снизу, казалось юным и вдохновенным — лицо исполненного надежд юноши, у которого все впереди, главное, чтоб его поддержали. Совершенно беспомощное. Ева кивнула ему, но улыбнуться так и не смогла.
5
Уже глубокой ночью, несколько часов спустя, она лежала без сна в кровати, в которой постоянно, за вычетом одного года, спала с четырехлетнего возраста. Кровать стояла на своем месте, в своей — Евиной — комнате, никем этой ночью, кроме нее, не занятая, холодная, но надежная; она плыла по тихой глади сна своей родной семьи, располагавшейся в нижних комнатах. Родная стихия, ее — по праву — прибежище, ячейка, где сложилась ее жизнь, которая вновь приняла ее после кратковременной отлучки. Даже Роба от нее забрали — на сегодняшнюю ночь, по крайней мере; отец, восприняв ее молчаливый кивок как знак согласия, повернулся и пошел вниз, к остальным; усевшись в кресло, он сказал Рине (Ева слышала из своей комнаты): — Сходи к Еве, спроси, может, ей хочется побыть без Робинсона. — Пришла Рина и постучала по косяку — дверь была открыта, а потом вошла в комнату и, напряженно вглядываясь в лицо сестры (Ева все еще стояла у лампы), сказала: — Я оставлю Роба у себя, внизу. Он уже уснул. Ты не беспокойся. — На что Ева ответила: — Спасибо тебе, — и села, а Рина вышла, притворив за собой дверь. Ева продолжала сидеть; комната выстывала, фитиль в лампе некоторое время сухо потрескивал, тщетно пытаясь посветить еще немного. Но керосин догорел, и огонек погас, а она все сидела, прислушиваясь к доносящимся снизу звукам — семья готовилась отойти ко сну. Когда все стихло, она поднялась, нашарила в темноте на столике свое рукоделие, пошла к комоду и, опустившись на колени, засунула его поглубже в нижний ящик. Потом встала, быстро разделась догола и, подойдя к окну, отдернула занавеску, рассчитывая увидеть при лунном свете свою наготу — зрелище, которое мало интересовало ее с тех пор, как она уехала из Виргинии. Не тут-то было, за окном стояла черная ночь. К себе она не притронулась. Ничего даже приблизительно похожего на мысль не промелькнуло у нее в голове после ухода отца. Мозг ее не то чтобы дремал, он скорее обмер или сжался в оцепенении, как сжимается рука, внезапно рассеченная острым лезвием, в ожидании, чтобы количество хлынувшей крови определило глубину пореза и время, которое потребуется, чтобы рана зарубцевалась. Так и не надев ночной рубашки, она легла в постель и уснула, как провалилась.
Ей приснился сон. Обычно она спала без сновидений, а если ей что-нибудь и спилось, то это бывали преимущественно правдоподобные занимательные истории, слагавшиеся из событий повседневной жизни (она забыла сон, который видела в брачную ночь, хотя и он едва ли был создан исключительно ее воображением). Но этот сон был страной и совершенно нов, некое открытие. Свет — основным ощущением был свет — ясное, теплое, солнечное сияние, струившееся сквозь высокие, широкие окна, смягченное ими. Окна принадлежали большому зданию. Здание это не было ни жилым домом, ни магазином. А бывала ли я когда-нибудь, — она так и спросила себя во сие, — в здании, где не спят, не торгуют? Она не смогла вспомнить и продолжала бродить по нескончаемым этажам омытых светом комнат, мимо молчаливых, довольных людей, сидящих за столами, работающих, читающих или просто глядящих в окна. Никто с ней не заговаривал; но она не видела в этом ничего обидного, не чувствовала себя нежеланной или невидимой. Она испытывала бы абсолютный покой, если бы не напряженная работа ищущей, сохранившей ясность мысли. Ева отчетливо сознавала во сне, что ей необходимо сделать над собой усилие и уловить смысл происходящего, выяснить, для чего существует это здание, над чем трудятся эти молчаливые люди, как называется их работа. Казалось, еще немного, и она не выдержит напряжения и впадет в отчаяние — шаги ее ускорились, лицо стало натянутым, но тут за залитым солнцем дальним столом она заметила человека, который смотрел не на свою работу, не на солнце, а на нее. Приблизительно ее ровесник, почти мальчик, и ей даже в голову не пришло обратиться к нему со своими вопросами. А он не улыбался. Однако, когда она уже почти прошла мимо него, он поднялся и сказал: «Что ты знаешь?» Она остановилась и обернулась — тоже без улыбки, — силясь узнать его (теперь он показался ей знакомым, возможно, кем-то из родственников). Но установить, кто он, она так и не смогла, как не могла определить своего местонахождения, и спросила только: «Где я?» Он ответил: «В школе». «В какой?» — «В единственной». — «Как я сюда попала?» — «Ты не могла не прийти». Она постояла и подумала, потом кивнула и спросила: «А чему я должна здесь учиться?» Наконец он снизошел до улыбки. «Это ты потом узнаешь, когда будешь учиться» — и развел руками — мол, тут он бессилен: дело за ней. Она немедленно согласилась, и радость залила ее, как солнце комнату. И улыбкой, одной только улыбкой, помимо воли засветившейся на лице, попросила: «Раз так, скажи мне, как тебя зовут, и я приступлю». Лицо его посуровело, руки опустились, он дважды мотнул головой. «Это из области того, что ты утратила и должна теперь вновь постичь».