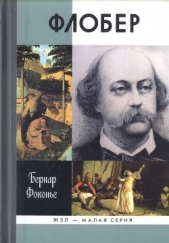Сны Флобера
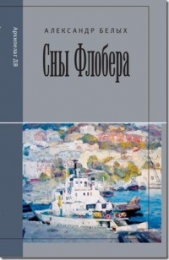
Сны Флобера читать книгу онлайн
Прозаик, поэт и переводчик с японского Александр Белых написал роман о Владивостоке 1990-х, – им издательство продолжает серию лучшей современной дальневосточной прозы «Архипелаг ДВ». Это первая прозаическая книга А. Белых. До этого в московских и санкт-петербургских издательствах неоднократно издавались его переводы из японской классики, а в 2007 году в издательстве "Рубеж" выходила книга стихов Александра Белых "Дзуйхицу".
Вот что сказал о романе «Сны Флобера» известный писатель Евгений Попов: «Роман этот, писанный во Владивостоке в аккурат на рубеже второго и третьего тысячелетий – с 1999 по 2001 годы, несет на себе зримые и незримые меты своего места и времени... Роман «Сны Флобера», на мой взгляд, – это подлинная, высококачественная, штучная русская современная книга. Кто-то такую книгу на переходе второго тысячелетия в третье должен был написать. И то, что это досталось сделать Александру Белых из Владивостока – его счастье».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Они замолчали. Феликс подобрал завядший цветок красной лилии, повертел его в руках, поднёс к носу, шумно втянул воздух.
— Увял, бедняга, — бесцветно произнёс он и, скрестив ноги, приложил лилию к своему заскучавшему, немного примятому от долгого лежания на камнях фаллосу. — Он увял, как бутон моей крайней плоти.
«Крайне прекрасной плоти», — подумал Владик.
Наверху заржала лошадь. Мальчики подняли головы.
— Ха — ха! Даже лошадь ржёт над нами. Она ржёт над нашими худосочными умствованиями, — сказал Владик. — Нам нужно всё наделить мыслью, каждое действие, каждую вещь, каждое слово. Разве мир есть мысль? Если так, то придётся согласиться, что ты, Феликс, всего лишь чья‑то выдумка, чей‑то вымысел.
— Верно, мы к — каждую минуту чей‑то в — вымысел! — согласился Феликс, жонглируя камешками. Один камешек был черный, а другой белый.
— Сидит какой‑нибудь сочинитель и сочиняет нас по своей прихоти. Он выдумал этот остров, эту бухту, этот день. Сейчас у него кончатся чернила, пересохнет тушь, умрёт фантазия, и неужели всё на этом закончится? Как печально!
— В таком случае мы н — навеки останемся з — здесь, в этом солнечном дне, вдвоём, будем лежать рука об руку, прижимаясь друг к другу…
— Ха — ха — ха! И конь будет ржать над нами.
— Нет, пусть сочинитель п — пишет дальше. Если у него высохнут чернила, то пусть пишет хотя бы п — помётом, что обронила сорока…
Феликс забросил камешки в море. Поднял голову: в небе, распластав крыла, парил ястреб. Он тоже попал в переплёт воображаемой книги.
— Нужно писать пенисом, ибо поэзия должна быть влажной. Кстати, в древней Иудее ослиные уши называли небесными, то есть священными. Почему тебя прозвали Феликс Ослиные Уши?
— Да пацаны эти — дураки! — с досадой произнёс Феликс. — Они говорят, что мой хмырь похож на ослиное ухо.
— И уши у тебя большие, как у Будды. Говорят, это признак ума.
Феликс ухмыльнулся. Его так и подмывало на откровенность, возможную только между близкими друзьями. Как‑то ночью в интернате он рассказывал перед сном о трёх мушкетерах; мальчики — их было человек десять — слушали, лёжа в своих кроватях. Один же, вызывавший у него скрытое отвращение, тихонько подкрался и нырнул под его одеяло, сказав, что так лучше слышно. Феликс молча подвинулся, подавляя в себе неприязнь. Пока он рассказывал о приключениях мушкетёров, этот незваный «гость» бесцеремонно стал трогать его гениталии, принуждая Феликсову руку делать то же самое. Чем сильнее наступало возбуждение, тем оживлённей и ярче становилось его повествование, которым он, казалось, старался заглушить нервное дыхание провокатора…
Феликс все же не решился поделиться таким откровением. Тонкие же провокации Владика продолжались.
— Смотри, твой хмырь плачет, слеза выступила. Купается в лучах.
— Оплакивает свою невинность, — тяжко вздохнул Феликс.
Они хитро улыбнулись друг другу. Владик не ограничивал себя книжными познаниями и, как начинающий мужчина, предпочитал открывать истины собственным телом, а не умственными спекуляциями, как Марго. Собственно, этим он не отличался от Ореста.
— А — а! Феликс Ослиный Фуй! Вот его‑то тебе стало жалко, а лилию нет. Она не удостоилась даже крохотного слова сочувствия. Между прочим, у древних греков всё было пронизано сочувствием, потому что во всём видели божественное присутствие, даже в частях тела. И слово у них было такое — philos — любимый. Они говорили: мои любимые глаза, мои любимые руки, моя любимая грудь. Такое же отношение было к природе — к травам, цветам, деревьям, рекам.
Владик дотронулся до всех перечисленных частей Феликса, потом перевернулся на живот, положив руки под голову. Подул ветерок. Его мысли облетели, как белоголовый одуванчик. Если Феликс слышал, как волны ритмично бьются о берег, то слух Владика был поглощён затишьем между всплесками волн…
Владик поднялся и пошёл к источнику. Он встал на четвереньки и начал лакать воду по — собачьи. В воображении Феликса нарисовалась картина, будто его товарищ припал к чреслам женщины, изображённой в пейзаже.
— Ты был похож на псеглавца, когда на четвереньках лакал воду из родника. У тебя аж уши шевелились…
— Что за твари такие?
— Это люди с пёсьими головами.
— Ну, вот ещё! Обзываешься! Сам такой!
— Их изображали на византийских и русских иконах. У меня есть одна, потом покажу…
— Святые что ли?
— Один из них… Он перенёс через реку Христа — младенца, есть такая байка, за это его прозвали Христофор, несущий Христа…
— А — а!
— Ты тоже спас меня как собакоголовый Христофор.
— Гав — гав! — подал голос Флобер, но никто его не услышал. Только лошадь за сопкой заржала: «И — и-и — вин!»
— Ну‑ка, встань, поверни голову. Так. Тень твоего лица соединилась с твоим лицом. Имя тебе отныне двуликий Германубис…
— Ну, хватит обзываться!
…«Одеждами от кровей спасайся»…
Ветер тронул на склонах сопок травы. И травы пропели «ш — ш-ш — ш». Они пригнулись и волнами побежали вверх. Казалось, что женщина — великан глубоко вздохнула, и сейчас уберёт из‑под головы руку, сожмёт колени…
Феликс последовал примеру товарища. Вода заливала их лица, они фыркали, мотали головами. Феликс прыснул водой изо рта в лицо Владика и побежал по тропинке наверх, где паслась лошадь. Владик вскарабкался вслед за ним, но поскользнулся на кучке свежего буро — зелёного навоза, упал на колено.
— Что, оседлал навозную кучу? — рассмеялся Феликс.
— Как ты свои числа.
Владик сорвал пучок травы и вытер колено. Потом повернулся к морю и воскликнул:
— Солнце, солнце, божественный Ра — Гелиос, тобою веселятся сердца царей и героев, тебе ржут священные кони, тебе поют гимны в Гелиополе; когда ты светишь, ящерицы выползают на камни и мальчики идут со смехом купаться к Нилу. Солнце, солнце, я — бледный писец, библиотечный затворник, но я люблю тебя, солнце, не меньше, чем загорелый моряк, пахнущий рыбой и солёной водою; ликую не меньше, чем его сердце ликует при царственном твоём восходе из океана; сердце моё трепещет, когда твой пыльный, но пламенный луч скользнёт сквозь узкое окно у потолка на исписанный лист и мою тонкую желтоватую руку, выводящую киноварью первую букву гимна тебе, о Ра — Гелиос, солнце!
Марго сидела в лодке лицом к лодочнику. До противоположного берега было рукой подать. Орест похвастался, что при желании мог бы запросто переплыть этот пролив туда и обратно. Виднелись очертания побережья, скалы, песчаная коса, палатки на холмах, парусник, отдыхающие. Небо было белесым, тусклое солнце сквозь дымку как бы заштриховывало пологие склоны острова. Марго подумала: «Остров в поволоке, как глаза Ореста». Морщинистое лицо лодочника, словно изрытая земля, вызывало у неё двойственное чувство: с одной стороны, узоры глубоких морщин на лбу, на заросших седой щетиной щеках, под глазами, были такими рельефными, что она невольно увлеклась всем рисунком лица, но с другой стороны, это же лицо вызывало в ней неприятные мысли о старости. К счастью, лодочник был глухонемой. Она не любила дорожных разговоров с незнакомыми людьми. Он улыбнулся, не скрывая плохих зубов. Ей показалось, что это не лицо, а оживший муравейник.
Марго обернулась: Орест шёл вдоль берега, опустив голову, словно понурый пёс, покинутый хозяйкой. Вот он посмотрел вслед и помахал рукой. На сердце отлегло. Досада прошла. Она протянула руку за борт и обмакнула пальцы. Вдруг ей померещилось, что лодка не движется, сколько бы ни грёб перевозчик. Она снова глянула назад: отплыли порядочно, Орест превратился в белую крапинку. Откуда ни возьмись, набежал туман и скрыл остров. Он как будто бы растворился в воздухе. Скрип вёсел, плеск волн. «Кажется, сама вечность плещет о борт лодки…»
Сколько раз приходилось переправляться на другой остров через этот пролив на лодке, однако никогда у неё не возникало такого чувства покоя и отрешённости, какое она испытала сейчас. На некоторое время Марго даже забыла о собственном существовании, будто её сущность утекла куда‑то в прореху — то ли времени, то ли сознания, то ли пространства. Она уже не различала разницы между собой и старым лодочником. Она как бы исчезла из этого мира, а мир так и не успел почувствовать своего сиротства. Она была и лодкой, и лодочником, и морем, и чайкой, и ничем одновременно.