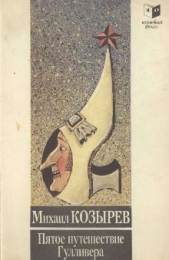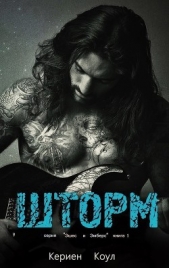Записки гайдзина

Записки гайдзина читать книгу онлайн
Япония - это та же самая планета, что и Россия, но совершенно иная цивилизация. Открытие этой страны европейцами растянулось на века и до сих пор не спешит заканчиваться: восторгаясь Японией и перенимая какие-то внешние проявления японской жизни, мы до сих пор с трудом понимаем ее внутреннее содержание.
Книга Вадима Смоленского - удивительные по точности наблюдений записки человека, долго жившего в японском "зазеркалье", фантастическом по нашим меркам культурном пространстве, откуда совершенно по-иному выглядим мы сами, наша история и наша повседневность...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Подождите минуточку...
И опрометью бросилась вон из помещения.
– Так, – сказал Короедов, – побежала за начальством. Лучше бы нам уйти.
– Никуда не пойду, – упорствовал Берлогин. – Все скажу начальству!
– Сережа, ты хочешь сохранить наш бизнес?
– Есть вещи выше бизнеса!
– Ч-ч-черт, – занервничал Короедов, – не хватало еще...
Он схватил меня за локоть, чтобы убежать хотя бы вдвоем, – но было поздно. В помещение стремительно вошел давешний начальник в белой рубашке. Из-за спины у него опасливо выглядывала музейная служительница.
– Вы не волнуйтесь, – сказал Короедов, улыбаясь как можно безмятежнее. – Имело место маленькое недоразумение, мы его разрешили...
Берлогин сгреб самовар в охапку и подошел к начальнику.
– Это, – сказал он, – чтобы кипятить!
Начальник робко взялся за самоварную ручку и несильно потянул на себя.
– Это нельзя, – промямлил он. – Это экспонат...
– Туда уголь, – Берлогин тыкал пальцем внуть самовара, – а сверху трубу. Чтобы тяга была. Или сапогом. – Он схватил валенок со стенда, приладил его к самоварному жерлу и изобразил раздувание сапогом. На физиономии начальника нарисовалось смятение и ужас. Он пришибленно стоял и нелепо взмахивал руками, как пингвин крыльями. Короедов схватился за голову и вышел вон.
– Сергей! – сказал я. – Товарищ все понял. Он сделает нужные выводы. Давай поставим посуду на место.
Вызволив экспонат из берлогинской охапки, я водрузил его обратно на стол. Берлогин тяжело дышал, и пот лил с него обильными струями.
– Скажи ему, что я был форвард таранного типа!
– Этот человек раньше играл в футбол, – перевел я.
– М-м-м-м... – сдавленно промычал начальник.
Я отобрал у Берлогина валенок, приткнул его на стенд между лаптей и вытолкал экс-футболиста на улицу, поминутно оборачиваясь, лепя мелкие поклоны и бормоча извинительные формулы. Самовар блеснул нам на прощание своим медным боком и потух.
На эстраде стояла румяная тетенька и дула в жалейку. Сгорбившийся Короедов сидел на скамеечке и глядел в асфальт. Мы подошли к нему. Одновременно подошел Вяколайнен, неся папаху под мышкой.
– Ну, как музей? – улыбнулся он. – Правда, смешной?
– Ага, – кивнул я. – Забавный.
– Сходите еще к мамонту.
– Во-во, – поднял голову Короедов. – Сходи, Сережа, навести мамонта. Там ведь наверняка ошибка! Типа «русский народный зверь, холоднокровный, питается снегом, запекся в горячих песках». Давай, объясни им чисто конкретно про русских зверей!
– Чего за мамонт-то? – спросил Берлогин. – Может, правда сходить?
– Это из Питера мамонт, – объяснил я. – Зоологический музей сдает в аренду по бедности. Только нас туда не пустят, у нас билеты без мамонта.
– Все вам будет теперь, – процедил Короедов. – И билеты с мамонтом, и Лайма Вайкуле, и пиво, и гейши, и небо в алмазах. Заслужили!
– Ладно тебе, Короедыч! – хлопнул его по спине Берлогин. – Не убежит никуда твоя Лайма Вайкуле. И вообще, почему обязательно Лайма Вайкуле? Кто такая Лайма Вайкуле? Привези лучше Роксану Бабаян!
Короедов зажмурил глаза, поднес к ушам ладони и судорожно ими потряс. Затем вскочил со скамейки и стремглав зашагал прочь.
– Чего это он? – удивился Вяколайнен.
– За фетиш обиделся, – сказал Берлогин. – Чую, накрылся мой бизнес. Надо новый открывать.
– Открой японскую деревню, – посоветовал я.
– В Хабаровске?
– Ну, хотя бы... В Японии был, все знаешь. И про самураев, и про гейш...
– Гейш можно в Бурятии набрать.
– Точно. А самураев посади под сакуру, пусть они там себе харакири делают. Знаешь, как народ повалит?
– Не напасешься самураев-то... Но идея хорошая. Денежная идея.
...Восходящее солнце давно перекатилось за береговую линию и превратилось в заходящее. Теперь оно поджаривало Китай с Монголией и растапливало лед в русских самоварах. По эту сторону моря жара спадала, предметы отбрасывали тень, и пингвины в океанариумах больше не роптали. На ступеньке псевдорусского полухрама сидел мечтатель, космополит и подвижник по имени Петр Короедов. Сощурив глаза, он наблюдал за ходом дневного светила и негромко шептал:
– Еще не вечер... Еще не вечер...
Он пел.
О смелых параллелях
Многолетнее занятие, которому почти всецело посвятил себя автор этих строк, для иных выглядит достаточно странно. В самом деле: ну разве можно, обладая артистическим складом натуры и взглядом художника, имея некоторое подобие харизмы и даже умея играть на губной гармошке, – разве можно при всех этих неоспоримых достоинствах отвернуться от света, похоронить блестящие задатки, превратиться в кабинетного червя и сутками напролет предаваться изучению хитроумных черных закорючек? Неужели это логично?
Ответить я могу единственным способом – пригласив в союзники и адвокаты Владимира Набокова.
Как всем известно, Набоков не только сочинял гениальную художественную прозу. Помимо прозы, он всю свою жизнь преданно и неутомимо изучал бабочек. Он ловил их, препарировал, классифицировал, писал о них научные труды и даже открыл несколько новых, неизвестных до него видов. Неудивительно, что бабочки любили залетать к нему в произведения, становясь их эпизодическими, а то и главными персонажами. В шестой главе автобиографии «Чужие берега» Набоков признается в своем полном равнодушии к литературной славе и удивительном неравнодушии к славе энтомолога. Пусть это прозвучит нескромно, но я прекрасно понимаю Набокова. Дело в том, что иероглифы для меня – примерно то же самое, чем для Набокова были чешуекрылые.
Владимир Набоков любил бабочек за праздную бесполезность их красоты, которая плохо вписывается в эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Там, где Дарвин видел слепые мутации и жестокий отбор среды, Набокову хотелось видеть прихотливую руку вдохновенного творца. Хотелось видеть – и виделось. В иероглифической письменности мне удается разглядеть нечто похожее. Иероглифы для меня – это своебразные лингвистические бабочки. Подобно чешуекрылым, посрамляющим дарвинизм, они посрамляют модную нынче эргономику.
Если богов на Олимпе много, то среди них должен быть Бог Избыточности. А если Бог один, то избыточность – важнейшее направление его промысла. Конечно, божественно далеко не всё, что избыточно. Но есть особая, небесная избыточность – принципиальная нестесненность творца в мерах и средствах.
Зачем, – вопрошал Набоков, – зачем так сложна и бесполезна мимикрия бабочек-притворщиц, подражающих осам и сухим листам в степени, намного превосходящей умственные способности птиц и ящериц?
А зачем, – вопрошаю я, – иероглифу «зубило» двадцать восемь штрихов? Разве не хватило бы ему пяти-шести, чтобы отличаться от других? Изобразить зубило как таковое можно и тремя штрихами – а в иероглифе их двадцать восемь. Зачем?!
А вот и затем. Мы ведь не спрашиваем, зачем Создателю все эти планетные системы и гравитационные поля, все эти спектры и резонансы, изотопы и геномы, травинки и былинки, пары чистых и нечистых, законы разных архимедов, квантовый переход и нейтрино. Другой бы навалил кучу межзвездного вещества и лег на койку отдыхать – а наш Небесный Отец усталости не знает и эргономики не признает. В чем и божественность.
Египетский фараон, возводящий пирамиду, ни на йоту не приближается к богам, как бы этого ему ни хотелось. Поскольку, при всем безумии замысла, сама по себе пирамида – сугубо рациональный проект инженерного ума. А вот безымянный каллиграф, постановивший, что зубилу суждено быть изображаемым в двадцать восемь штрихов, сам того не ведая, совершил рывок из профанного в сакральное и стал подлинным демиургом.
Трудно не признать, что одной из ведущих сил прогресса является лень. Сперва мускульная лень, а с некоторых пор и мозговая. Экономя физические силы, человек изобрел велосипед, паровоз, динамит и книгопечатание. Экономя силы умственные, он изобрел компас, логарифмическую линейку, подкидного дурака и механическое пианино. Сегодня прогресс достиг невиданных темпов, и страшно даже подумать, что человек захочет изобрести завтра.