Новый Мир ( № 3 2010)
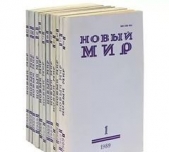
Новый Мир ( № 3 2010) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Короче, Луга, Жеймяна, прибавлю к ним Лиелупе с Даугавой, да и Волгу с Днепром, и Пыжму на Урале, и Тису в Карпатах, и Темзу — там, где она называется Айзис, Изида, и Гудзон на подходе к Нью-Йорку, а и, чего мелочиться, Миссисипи — это в которых я плавал. Приведу к общему знаменателю, сложу, поделю на равные русла, вот и выйдет мемуарная Ока. В Миссисипи не плавал, сидел на берегу, ножками в ней болтал — за дальностью от места прописки идет в зачет как заплыв. Тем более что в каких-то из них, и почему бы не в ней, видел утопленников. Сколько? Спасенных — двух, сгинувшего — одного, и одного неизвестно кого, достанного со дна, в коряжине застрял. И захочу — могу про них вспомнить. Например, что были они две девицы и два мужика. Неинтересно? Утопленник — всегда интересно. А когда в первый раз вспоминал, о-очень выходило интересно. Про каждого. А сейчас вспоминать, что интересного про каждого рассказал, — интерес собачий.
Возврат к исходной точке. Что же такое было, про что говорится “чего только не было!”? Что-то, от чего нападал восторг. Отчего налегало отчаяние. Что-то, что ужасно не хотелось, а надо было исполнять, чтобы не стало хуже. Масса делишек, мыслишек, болезнишек, удовольствиешек, которых смысл, цель и содержание — убить время. Потому что шестьдесят лет, семьдесят лет тиканья ходиков — как с ним справиться, если не придушить, не заткнуть Хроносову пасть? Сплошь глупые предприятьишки — особенно те, что выглядят умными, то есть заманчивыми, особенно те, что особенно умными, особенно заманчивыми... А-а-а, ты, стало быть, исключительный. Всем подходит, а тебе — глупые? Ты с Промыслом не согласен, ты недоволен, тебе подавай выдающееся... Ну да, и это тоже, бесконечные разборы, бесчисленные разборки, согласен — не согласен, доволен — не доволен, это тоже лет тридцать всяко съест. И на то, чтобы притерпеться к хамству “ему подавай выдающееся”, не меньше прикинь.
Давайте наконец вспоминать. Детство. Мухоедство. Не забывая, что они же — дедство, полпредство. Роман “Овод”. Где Обводный канал и Фонтанка-река тра-та-та каждый вечер встречаются, там чего-то там пьют, блатные песни поют и еще кое-чем занимаются. Каждые сперва еще только сумерки, потом именно что вечер, потом непроглядная ночь, с первого сентября, берущим за сердце радиоголосом народного артиста — “Овод”. До первого января. До первого марта. Какая-то Этель, какая-то Войнич. Старушка, бабушка. Дедушкина вдова. Советское полпредство в Сан-Франциско дало обед по случаю титилетия Этели. Полномочное представительство. “Монсеньор, я Риварес!”
Это мое детство. Первоиюньский выезд детского сада на дачу. Жидкая манная каша. Свисающие с потолка, цепляющиеся за волосы воспиталок липучки — противомушиное средство. Насекомоедство. Мотыльки, комарики, оса — все приклеились. Воспиталка бодалась. Воспиталки ели манную кашу из ведра. Из эмалированного — алюминиевыми ложками. Эмаль. Со сколами. Запомнил внук, вспоминал дед. Лиможские эмали. Внук — ни тпру, ни ну, ни кукареку, дед знал. Зал лиможских эмалей. Не в Лиможе. Не в Лиможе, а-а... в Эрмитаже, комната номер. Психея преподносит подарки злым сестрам. Миловидным. Купидоны преподносят что-то какой-то юной даме. Мадемуазели. Свет в помещении приглушенный. Розу? Голенькие... Это могла быть толкучка экскурсии, водили со школой, внук мог бросить взгляд. Дед мог знать и то, что запомнилось внуку. Плюс отдельно, Эрмитаж, комната номер.
Детство не мемуарно. Детство — ядро надвигающегося ужаса. Психического. Психейного. Эротического. Забыть, забыть что-то негодное! Негожее. Как врал. Как подглядывал. Как зажмуривался. Закрывался одеялом с головой, затыкал уши. Совался, куда почему-то знал, что нельзя. Детство — извержение всего желанного, что нельзя. Всего, что нельзя и потому желаемого нестерпимо, вожделенного, горячего. Гейзер. Детство — узел романа в четырех томах, в каждой главе обещающего с этим запутанным, стыдным, гоголь-могольным развязаться, выговориться, оторваться. Но влипшего в него, как Братец Кролик в смоляное чучелко. Выползающего, как остывающий чугун, как карамельная масса, в пятый том, в шестой — объявленные совсем из другой оперы, но продолжающие объясняться, уточнять. Заходиться в самобичевании. Оправдываться.
Хорошо, пусть без детства. Откроем заслонку, направим, что поддастся, в изложницы влюбленности. У меня, еще в статусе внука, хотя об этом и не догадывавшегося, их было три. Первую звали, верьте не верьте, Ева. Нормально. Библия ни при чем, Библии еще не существовало. Почему не Ева, если есть Ада, если есть Оля? Куда необычнее, что официально, по метрике, ее можно было звать Ева-Татьяна. Дочь австрийских антифашистов, бежавших от Гитлера. В Свердловск. На год младше меня, а мне шесть. Если у влюбленности была причина, то в чем — не знаю. Что девочка — другого в голову не приходит. Длинные волосы, мягкие манеры, нежная речь — не мальчик. Если схватить, то не чтобы бороться, а только сжимать.
Вторая — когда пошел в школу. В восемь, но сразу во второй класс. Звали — и опять: не хотите верить — не надо: Муза. Фамилию знал прекрасно, несколько лет, но при таком имени попробуй не забудь. Уже когда
забыл, натыкался и вспоминал. Демидова, Шувалова — что-то такое. Откуда-то знал, что мать — татарка. Не — Муза по матери татарка, она русская-разрусская, но мать — татарка. Отец, не знаю, Степан Разин, Александр Матросов. Она — несусветная красавица: белокурая, голубые глаза, румянец. Уралка. Так и отлеглось: муза — красота. Немного сонная.
Третья — девятый класс (обучение раздельное). Дина. Худенькая, нервная. На мою влюбленность отвечала раздраженно. Не нравился я ей. Даже когда чем-то заинтересовывал, не больше чем минут на десять. Вдруг реле щелкало: тороплюсь, дальше провожать не надо, пока. А и в самом деле, чем я мог заинтересовать на дольше? Из ряда вон выходящая ее притягательность, помимо хрупкости и тревоги, как у попавшей в никому другому не видимую западню, шла от того, что она жила в квартире, где Раскольников убил старуху и девицу. Про что я ее или расспрашивал (чувствует ли заклятость места? не остался ли какой-нибудь след Достоевского?), или ей рассказывал. Мол, когда прочел (прошлым летом), днями ходил вокруг дома и даже поднялся, позвонил в квартиру. Это все правда, но захватывающе было только для меня. Ее не пробивало. Конечно, тут же стал врать. Дескать, на лестнице — у нее ведь деревянная лестница, еще та, я прав? — под последней перед квартирой ступенькой пошарил и нашел приклеенную снизу, свернутую в тугую трубочку, обернутую кусочком клеенки того сорта, которым оборачивают горло, когда делают компресс, записку с двумя словами: “Наполеон напролом”. Отнес в Публичную библиотеку на экспертизу, почерк Эф-Эм подтвердили и сказали, что это невероятное открытие. Дина на меня взглянула диковато и с открытой неприязнью. Я, уже, наверно, в отместку, решил спросить: вы книгу-то читали? Она ответила: читала-читала — а) лишь бы закончить разговор, б) как когда ссорятся, в) когда не читали.
Был еще один план в моей влюбленности. Он-то, может быть, и задел бы ее, и не то что я держал его в запасе, но смысл его был как раз в необнаружении. Дина не такое частое женское имя и сейчас, а из сохранившихся с праматерних времен — в ряду двух-трех редчайших. К девятому классу Библия вполне уже существовала, и история Дины с братцами была в ней самой немыслимой. Почище змея с Евой, почище Каина-Авеля, почище, если позволите, и Потопа. Эти все с участием, а главное, в реальном, чуть ли не материальном присутствии Бога. А с Диной — людская в чистом виде. Субъекты, которых мы знаем лично, чьи душевные движения понимаем, как свои собственные, — на Бога только ссылавшиеся. Совершенно так же, как русские, немцы, американцы, нательными крестиками “С нами Бог”, ременными пряжками “Гот мит унс” и монетами “Год виз ас” оправдывающие свои взаимногубительные действия.
Изнасилование девицы; не то осознание грозящей мести и расплаты, не то западение на ее совокупительные прелести; явка с повинной, с просьбой отдать в жены. Обычное дело, каких миллион. Согласие братьев на условии принять всему племени жениха обрезание крайней плоти. Ответное согласие. Всеобщее обрезание. Даже скучно, как благопристойно. Нападение на ходящий враскорячку беспомощный мужеский пол, умерщвление каждой особи, без единого пропуска. Чуток чересчур, немножко с перебором. Но не так, чтобы это нас, читающих, лишило чувств и дыхания. Тут шикарно обоснование — воля Бога. Больше — угождение Ему! Велел резать крайнюю, а мы — всю! Самого Его при этом нет — где-то в другом месте. Но дураку ясно, что Он — такой. Что отвести Ему эту роль — можно. Напрашивается.

























