Дондог
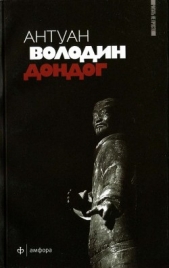
Дондог читать книгу онлайн
Антуан Володин — так подписывает свои романы известный французский писатель, который не очень-то склонен раскрывать свой псевдоним. В его своеобразной, относимой автором к «постэкзотизму» прозе много перекличек с ранней советской литературой, и в частности с романами Андрея Платонова. Фантасмагорический роман «Дондог» относится к лучшим произведениям писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Спустя несколько мгновений, когда один из охранников направился к бараку № 3, я прервал свою молитву и пристроился к нему. Охранник не обратил на меня никакого внимания. Для него я был просто-напросто псом в ночи, ничего более. Я добрался с ним до порога спального барака. Он вошел внутрь, шваркнул дубинкой по койке, на которой спал старшой по бараку, и включил свет. Старшина подскочил как ужаленный, тертый калач по имени Джоган Штернхаген, осужденный, как и я, за убийство убийц и саботаж.
Штернхаген открыл свои глаза закаленного хищника и без сожаления покинул мир сна, ибо, как и каждую ночь, ему снилось, что он окружен убитыми уйбурами и не знает, с кем он сам — с уйбурами или с их убийцами. Он отбросил к ногам дырявую доху, служившую ему вместо одеяла, и ловко извернулся, чтобы вытянуться лицом к лицу с солдатом.
— Слушаю, начальник! — гаркнул он.
Стоя на ледяном полу, он напоминал медведя в коротких штанишках, голого, седоватого и плешивого, быть может смешного, но способного сломать тыльной стороной лапы хребет. Мороз тут же обжег ему живот. Солдат оставил дверь нараспашку. Штернхаген растянул до ушей наигранно подобострастную улыбку, выставляя напоказ щедрый на кариес оскал своих резцов. Он весь покрылся гусиной кожей. Он был старшиной заключенных этого барака.
Солдат поигрывал дубинкой. Во всех его жестах сквозило дурное расположение духа.
— Не паясничай, Штернхаген. Твой барак опаздывает. Скажи своим таркашам, чтоб прекратили храпеть, ты ж за них отвечаешь — или нет?
Штернхаген проревел за кулисы несколько свирепых приказаний. Через полминуты гомона все шестнадцать заключенных барака № 3 выстроились в проходе, рядом с тусклой массой нар, под развешенным прямо над головой теперь уже не по сезону легким рабочим отрепьем. Люди стояли более или менее навытяжку. Они толком не успели ничего на себя натянуть и ждали приказа, чтобы одеться. Воздух с улицы молниеносно выстудил все накопленное за ночь тепло. По шеренге пробежала общая дрожь.
Солдат никуда не спешил. Он видел, что вторгшаяся снаружи ледяная сырость донимает замерших в неподвижности заключенных. В его не блещущем особым умом взгляде можно было различить самое заурядное садистское искушение, почти неотвратимое в ситуации, когда человек в форме оказывается лицом к лицу с наполовину голыми и замерзшими оборванцами. Сгущалась тишина.
— Можно прикрыть задницу, начальник?.. А то сёдня прям колдобит! — пожаловался смелый голос, голос Хохота Мальчугана, разбитного парня с проступающими ребрами, не слишком упитанного, но сильного, осужденного, как и все мы, за подстрекательство к политическим убийствам и бандитизм. Его клыки сохранили свою белизну, их слоновую кость еще не тронули плохое питание и драки.
Я в этот момент подвернулся слишком близко к надзирателю, говорит Дондог, и ему мешал. Он внезапно грубо от меня отмахнулся. Я сделал два шага по направлению к выходу, но продолжал секунда за секундой следить за происходящим.
— Вот те на, Хохота Мальчугана колдобит! — откликнулся надзиратель.
Сначала он оскалился, потом нахмурился, раскидывая умом. Сузив зрачки, он заново вникал в то, что ляпнул Хохот Мальчуган. Что это было, простой знак неуважения или проявление неповиновения? Он взвешивал, насколько весома эта дерзость. Ворчание еще могло сойти с рук, но о всяком поползновении к бунту надлежало оповестить начальство, за чем автоматически следовало безжалостное наказание. Барак притих. Все ждали. Прошла минута, а может, много меньше, может, чуть больше. Солдат перестал стучать дубинкой по левой ладони. Его щека подергивалась от тика. Размышлять, как ни в чем не бывало подвергая зэков издевательскому испытанию, доставляло ему, не иначе, определенное удовольствие. Вдоль коек клацали зубы. Людей била дрожь. Они еще не успели вновь притерпеться к низким температурам.
— Хохота колдобит — пусть свой кол обдолбит! — рискнул сострить Штернхаген.
Уж слишком холодно было. И он решился встрять — скорее ради самого себя, нежели ради своих сотоварищей или Хохота. И тогда, как и предвидел Штернхаген, — так бывает всякий раз, когда кто-то использует слова, в которых присутствуют так или иначе отсылающие к рукоблудству образы, — между самцами возникло нечто вроде сообщничества, питаемого грязными образами и воспоминанием об одиноких ощущениях.
Солдат сглотнул слюну. На его глуповатом лице промелькнуло что-то вроде скабрезного осклаба.
— Вперед, — скомандовал он, — пошевеливайте задницами! Через десять минут всем быть в столовой!
Хохот Мальчуган попытался было встретиться с Джоганом Штернхагеном глазами, он хотел поблагодарить его, подмигнув. Но старшой по бараку перебирал теперь ту немногочисленную рвань, которая в преддверии холодов представляла собой его гардероб. Он тщательно осматривал одежку за одежкой, после чего либо натягивал ее на себя, либо вешал на вбитый в перегородку между койками гвоздь. Он не видел Хохота, Хохот его не интересовал. И тем самым, этим театральным стремлением в первую очередь разобраться со своими пожитками, он заявлял о намерении получить за ту услугу, которую он только что оказал, вознаграждение.
Вознаграждение, а не просто подмигивания.
И это не укрылось от Хохота Мальчугана, ибо, как и все таркаши, он знал обычаи и стандартные расценки.
Действительно ли Джоган Штернхаген спас Хохота Мальчугана от сурового наказания? Сыграло ли на самом деле его вмешательство решающую роль? Весь день этот вопрос живо обсуждался среди зэков, в санчасти и за ее пределами. Я слушал калек, больных, расхаживал по опустевшему лагерю, покинутому выведенными на лесозаготовки заключенными. По общему мнению, вмешательство Штернхагена помешало Мальчугану низвергнуться в пучину бедствий. Оно избавило его от таких вариантов, как перевод в зону рудников с пятигодичной накидкой срока. Инвалиды, чтобы определить цену оказанной услуги, цитировали таркаший устав. По их мнению, Штернхаген мог потребовать от Мальчугана многого, Штернхаген теперь имел право попросить у Мальчугана уступить ему свою подружку — на несколько вечеров, а то и навсегда.
Я притащился в прачечную, но Черная Марфа не захотела отвечать на мои расспросы касательно любовных обычаев и брачного танца в концентрационной обстановке. Она даже не убеждала меня более забыть Ирену Соледад, не нахваливала достоинства Элианы Шюст в сравнении с Иреной Соледад. Она ворча наливала мне стаканы чая и возвращалась на склады и в прачечную, чтобы подготовить общую раздачу зимних вещей. Она едва со мною разговаривала. Она сердилась, что я ее ослушался, что барабанил по лиственнице как шаман, задатками к искусству которых был обделен. Кто-то сообщил ей о моей предрассветной деятельности, или она сама меня слышала. По причинам, которые мне не сообщались, наверное, потому, что это затрагивало ее вытесненные воспоминания, она не переносила мои позывы к шаманству.
Еще стояло утро, когда Ирену Соледад вызвали к начальству. Я видел, как она в сопровождении вооруженного карабином надсмотрщика минует заставу у женского сектора. Я пристроился к ним в хвост и дошел вместе с ними до самого кабинета начлага. Я семенил вплотную за ними, подстроившись, чтобы не мешать, под их ритм. Был их тенью. Никто не обращал на мои ужимки ни малейшего внимания.
Я вошел одновременно с заключенной.
Проскользнул за спину начальника и там замер.
Прямо перед нами грезила Ирена Соледад. Она теребила бахрому соскользнувшей шали, большого шерстяного платка, наброшенного на плечи. Небрежно уставив карабин в потолок, скучал в углу солдат.
— Ирена Соледад, вы меня слышите? — спросил начальник.
У нее был упрямый вид. Помимо естественной враждебности, которую выказывали во время допросов все заключенные, в ее поведении сквозило полное безразличие. Прозрачность ее глаз редчайшего светло-карего оттенка озаряла разделяющее нас пространство, но, надо признать, на периферии их ленивого, невнимательного взгляда не промелькнуло никаких следов умственной активности.
























