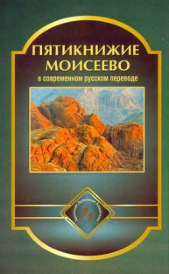Двадцатый век. Изгнанники

Двадцатый век. Изгнанники читать книгу онлайн
Триптих Анжела Вагенштайна «Пятикнижие Исааково», «Вдали от Толедо», «Прощай, Шанхай!» продолжает серию «Новый болгарский роман», в рамках которой в 2012 году уже вышли две книги. А. Вагенштайн создал эпическое повествование, сопоставимое с романами Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Сквозная тема триптиха — судьба человека в пространстве XX столетия со всеми потрясениями, страданиями и потерями, которые оно принесло. Автор — практически ровесник века — сумел, тем не менее, сохранить в себе и передать своим героям веру, надежду и любовь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я придерживался несколько иного мнения, но лагерь Флоссенбург был не самым подходящим местом для подобных дискуссий, и я малодушно согласился:
— Так точно, господин штурмфюрер.
— Ну, а ты стал человеком? Хоть ефрейтором-то стал?
— Простите, но никак нет, не стал.
— Да ты что? И зачем тогда целых две войны, если человек не выслужится хоть до ефрейтора? Зачем тогда эти войны, я тебя спрашиваю? Вы, евреи, полные ничтожества, ни на что не годитесь! Так или не так?
— Так точно, — с готовностью подтвердил я.
Он презрительно, даже брезгливо глянул на меня — грязного оборванца, смердящего карболкой получеловека с поседевшей рыжей бородой, в которой застряли высохшие нити капусты. И тут случилось то, чего я никак не ожидал: Цукерл открыл боковую дверцу своего письменного стола и сердито швырнул прямо на папки кирпич черного ржаного хлеба, а на него — увесистый шмат копченого сала.
— Бери и сматывайся! И если еще раз попадешься мне на глаза, я тебя отправлю… сам знаешь, куда!
Я примерно догадывался, но даже не попытался разыграть оскорбленное достоинство или неподкупность, а, схватив неожиданно обрушившееся на меня сокровище, сунул его под свои лохмотья и, согласно приказу, тут же испарился.
Мне стыдно признаться, но я поделился этим счастьем только со своим ребе — мы тайно порвали все на мелкие кусочки и рассовали их по карманам, в щели под нарами и куда придется, а затем сосали их, крошка за крошкой (исключая те порции, до которых раньше нас добрались крысы, которыми кишмя кишел лагерь). В отличие от внешнего мира, где люди живут в сообществе, но умирают каждый сам по себе, мы здесь умирали коллективно, а вот выживали каждый как может. Стыдно сознаваться, но это относилось и к нам, людям, и к крысам.
Не знаю, понял ли ты, на какой смертный грех мы себя обрекли, оскоромившись салом, запрещенным нашей верой! Но это было, я искренне признаюсь в своем грехе и, может, в день Страшного суда нам придется отвечать за то, что мы поставили свои жалкие жизни выше канонов Завета. Но, в конце концов, разве не поддался тому же греховному соблазну и раввин бен Цви, увидевший в христианском колбасном магазине розовую сочную пражскую ветчину и спросивший:
— Почем кило этой рыбы?
— Это ветчина, сударь, — уточнил продавец.
— Я не спрашиваю, как эта рыба называется, меня интересует, сколько она стоит!
Штурмфюрер Цукерл приказал мне больше не попадаться ему на глаза, и все же однажды я его еще увидел — спустя какое-то время, висящим на караульной вышке. Когда американский танк, сметая все на своем пути, крушил гусеницами входные лагерные ворота с надписью «каждому свое». Не знаю, сам ли он повесился или его настигли те самые, возжеланные ребе бен Давидом семь страшных дней возмездия. Но я помнил тот хлеб и то сало, которые, может, и помогли нам выжить, и помолился за его душу.
Мы с ребе бен Давидом обнялись и заплакали — две тени, бывшие когда-то людьми, в лохмотьях, бывших когда-то одеждой. А за кирпичной стеной блевал, выворачиваясь наизнанку, американский солдатик — в своей родной Оклахоме ему не приходилось видеть груд полусгоревших, все еще дымящихся трупов. Вероятно, где-нибудь под Треблинкой или Майданеком в это же время блевали и советские солдатики, поверившие Максиму Горькому, что человек — это звучит гордо.
По лагерю сновали американские медсестры и монахини, добрые самаритянки, они уносили на носилках умирающих; солдаты уводили под конвоем арестованных эсэсовцев, жужжали кинокамеры, щелкали фотоаппараты.
Какой-то американский майор торжественно поднялся на броню танка, наверно, для того, чтоб сообщить что-то важное и патетическое — такой у него был вид — но я его уже не услышал: холодная темнота захлестнула мой мозг, и я сполз на землю. Вот как оно бывает: защитные силы человеческого организма — это великая тайна, они не подчиняются биологическим законам, скорее им противостоят, подчиняясь совершенно иным, метафизическим свойствам души или, как сказал бы ребе, — ее упрямству. Мне приходилось слышать о попавших в лагеря тяжелобольных — страдавших, скажем, малярией или припадками — с которыми при огромных физических и эмоциональных нагрузках, при предельном истощении организма ни разу не случилось некогда регулярных, как часы, приступов их болезни. Но в первый же день свободы, оставив за спиной ворота лагеря или тюрьмы, они падали с ног, и все начиналось сначала (словно болезнь, милостиво взяв временный отпуск, поплевав на ладони, снова принималась за дело) — первый за много лет припадок, регулярные, как морские приливы и отливы, приступы малярии с экзотическим названием «терциана», при которых температура у больного подскакивает до заоблачных высот. И хватит об упрямстве души — к этой теме мы еще вернемся.
Я открыл глаза и, не в силах пошевелиться, одним взглядом окинул доступное мне пространство: меня окружало какое-то желтое облако, свет струился со всех сторон, и от этого света у меня болели глазные яблоки, болело все — все фибры моей души, каждый атом тела. Я попытался поднять руку, чтоб прикрыть глаза от этого слепящего желтого сияния, но она лежала неподвижно, налитая свинцовой тяжестью.
Затем я увидел — ты не поверишь, но клянусь, это чистая правда — увидел себя с высоты кирпичной квадратной башни, где все еще покачивался обрывок проволоки, на которой когда-то (Когда? Вчера? В прошлом году? В прошлом веке?) висело тело штурмфюрера Цукерла. Увидел себя на походной раскладушке в огромной желто-оранжевой санитарной палатке с красными крестами. Как можно было находиться одновременно на вершине башни и внутри палатки, глядя на самого себя с высоты? Не знаю, но все было именно так: я видел свою руку, тяжелую, неподвижную, привязанную ремнем к раскладушке, а по прозрачной трубочке в вену капало что-то блестящее, какая-то жидкость желтоватого цвета — может, из-за струящегося желтого света, а, может, это был цвет самой жизни, не знаю.
Когда окружающие предметы стали приобретать реальные очертания, когда я смог спуститься с вышки и повернуть голову на подушке, я увидел ребе бен Давида, сидевшего рядом на складном стуле и не сводившего с меня тревожного взгляда.
— Ну как ты? — спросил он.
Я шевельнул потрескавшимися губами, давая понять, что слышу, что я здесь, что я жив, но не смог издать ни звука. Ребе намочил в алюминиевом котелке тряпочку и протер мне губы, а затем — и горевший в лихорадке лоб. Я протянул непривязанную руку и положил ладонь ему на колено в лохмотьях, бывших когда-то брюками — наверно, в поисках опоры и поддержки. А он, мой ребе, погладил мою руку. И я снова нырнул в темноту — бездонную и безграничную.
Время снова потеряло свои измерения, не помню, сколько раз я наблюдал за собой с вершины кирпичной башни, а затем снова возвращался в палатку, в собственное тело. Мои отрывочные мысли скользили по поверхности сознания как по гладкому леднику, не в состоянии зацепиться за что-либо, чтобы не соскользнуть в темную пропасть. Но все же я упорно цеплялся за одну-единственную жизненно важную мысль: я жив? И почему одновременно нахожусь и на башне, у проволочного галстука Цукерла, и внизу, в палатке? С высоты я бесстрастно наблюдал, как врач в белом халате поверх военного мундира, вооружившись стетоскопом, выслушивает мое сердце и легкие, или как мой ребе пытается влить мне в рот ложку бульона, разжимая мои судорожно сжатые зубы. А я скользил вниз по холодному леднику, дрожа от холода всем телом, но чувствуя, что обливаюсь потом.
Однажды ночью, в ослепительное полнолуние, я сидел на вершине башни, а точно подо мной Цукерл покачивался под порывами ветра, насвистывая что-то из «Веселой вдовы». В такие безоблачные ночи англо-американцы не летали, луна пялилась на землю, как сумасшедшая, а я чувствовал себя легким и бестелесным, мне было хорошо и спокойно. Я не заметил, когда мой фельдфебель присоединился ко мне, сел рядом, приспустил петлю на шее и, дружески хлопнув меня по спине, сказал: