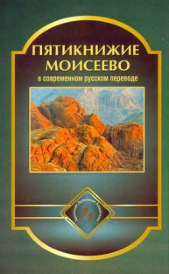Двадцатый век. Изгнанники

Двадцатый век. Изгнанники читать книгу онлайн
Триптих Анжела Вагенштайна «Пятикнижие Исааково», «Вдали от Толедо», «Прощай, Шанхай!» продолжает серию «Новый болгарский роман», в рамках которой в 2012 году уже вышли две книги. А. Вагенштайн создал эпическое повествование, сопоставимое с романами Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Сквозная тема триптиха — судьба человека в пространстве XX столетия со всеми потрясениями, страданиями и потерями, которые оно принесло. Автор — практически ровесник века — сумел, тем не менее, сохранить в себе и передать своим героям веру, надежду и любовь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Возмущенный до самого дна своей чувствительной души, обер-лейтенант Брюкнер глухим голосом приказал нам рассчитаться по порядку, а затем мимо наших шеренг быстрым шагом проследовали надменные эсэсовцы, выдергивая из строя каждого десятого.
Ты будешь смеяться, но я оказался именно десятым — как говорится, если Яхве (да славится имя Его!) решил, что у тебя должны быть неприятности, то никуда тебе от них не деться.
Оказалось, что какую-то крупную германскую шишку застрелили на одной из варшавских улиц, и теперь они решили взять сто поляков в заложники. Ну, ты понимаешь: если виновные не сдадутся до такого-то числа такого-то часа, то эти сто поляков будут расстреляны в знак законного и справедливого возмездия. И вот я тебя спрашиваю, учитывая создавшуюся ситуацию, что было лучше — оставаться мне поляком или признаться, что я еврей? Думаю, на этот вопрос нет ответа, ведь и в том, и в другом случае мне был уготован один путь: на небеса. Хоть лично я предпочел бы в тот момент быть польским евреем, уборщиком нью-йоркского метро.
Нужно отдать должное моему шефу, обер-лейтенанту Иммануилу-Йохану Брюкнеру, который попытался меня спасти, ссылаясь на то, что не может обойтись без меня в канцелярии, и еще на какие-то причины, но ничего не помогло (а нью-йоркское метро — увы! — было детской мечтой чистой пробы, слишком далекой от ораниенбургской реальности).
Нашу сотню запихали в одну и без того забитую под завязку общую камеру тюрьмы — зловещего кирпичного неоштукатуренного здания где-то на окраине Берлина. Здесь были евреи и цыгане, какие-то черногорцы тихо пели свои грустные песни, сидели здесь и гомосексуалисты, и другие вредные для Рейха существа. Поскольку сотня поляков оказалась непредусмотренной, упав местной тюремной администрации как снег на голову, то и пищи нам не причиталось, накормить нас забыли, а может, надеялись, что кормить и не придется. И я, измученный тяжелым, полным тревог, днем и дорогой в грузовиках, в которые нас напихали так плотно, что нельзя было даже сесть, уснул, свернувшись калачиком, прямо на полу камеры — нар здесь не было, не говоря уж о такой роскоши, как благословенная железная кровать в канцелярии.
И мне приснилось, брат мой, что я — в родном Колодяче на еврейской свадьбе, играю на скрипке, а раввин Шмуэль бен Давид делает хихикающим мальчишкам обрезание. Все счастливы, все поют еврейские песни, добрые наши соседи, в лапсердаках, пошитых моим отцом, хлопают в такт в ладоши, а в середине нашего круга старый почтальон Абрамчик и Эстер Кац отплясывают краковяк, постукивая тяжелыми башмаками.
Оказалось, что стучали не башмаки — это стучали ключами по шумно открывающимся дверям камер надзиратели, выкрикивая: «Юден раус!» — то есть: «Евреи — на выход!» И я, полный мишигинэ, с мутной от сна головой, в которой еще звучали песни еврейской свадьбы, начисто забывший о том, что я — пан Хенрик Бжегальски, портье львовской офтальмологии, вышел из камеры вместе с другими евреями. По всей длине бесконечного коридора, освещенного голыми электрическими лампочками, выстроились испуганные сонные люди из соседних камер, и только я, кажется, был единственным без желтой звезды на груди. До меня слишком поздно дошло, что я натворил, я попытался объяснить, что произошло недоразумение, показывал свои польские документы, но никто меня не слушал: «Давай! Давай! Вперед! Не задерживаться!», у нас за спиной захлопали, закрываясь, двери камер. Я сам признал себя евреем, выйдя из камеры, а охранники явно разделяли подход советского государственного обвинителя Вышинского — признание, даже полученное под пыткой, — царица доказательств.
Сопротивление было напрасно, ведь сказано, и семижды семь раз доказано, что быть евреем — это пожизненный приговор без права на помилование!
И вот я снова в товарном вагоне, но этот раз нас везут в лагерь Флоссенбург-Оберпфальц, где вспыхнула эпидемия тифа, которая косила всех подряд. Нас везли на похоронные работы — мы должны были позаботиться о своих усопших братьях по судьбе. По крайней мере, так нам все представил начальник поезда, какой-то группенштурмфюрер — во избежание паники и попыток к бегству. Иными словами, нас везли на верную гибель в тифозный апокалипсис Флоссенбурга, в этом не было ни тени сомнения.
А сейчас, друг мой, я снова напомню, что человек — бессильный муравей в могучих и необратимых играх судьбы, и что мне, жалкому муравьишке, не дано понять, чем была обрушившаяся на меня беда — наказанием Господним или его тайной милостью. Потому что той же ночью все 99 польских заложников, привезенных из «спецобъекта А-17» были расстреляны — об этом я узнал уже после войны. Последнего, сотого по списку, так и не нашли — а ведь это был я, Исаак Якоб Блюменфельд, который в тот момент ехал в далекий Оберпфальц.
Входя в лагерные ворота в виде двух кирпичных караульных башен, соединенных сакральной изогнутой металлической надписью «КАЖДОМУ СВОЕ», мы представляли собой толпу измученных оборванцев под конвоем солдат с собаками.
И, пожалуйста, уволь меня от воспоминаний, тяжелых, как стотонная чугунная болванка, и от описаний ада, в который мы попали! Многие уже сделали это до меня, причем описали все куда лучше, чем это удалось бы мне. Прошли уже времена первых потрясающих раскрытий, схлынули и волны ужаса, которые после войны, как цунами, заливали мировую совесть. На экранах были прокручены миллионы метров кинолент, показаны миллионы фотографий, накопились горы судебных досье и воспоминаний, в которых каждый видел свой кусочек истины через замочную скважину пережитого лично им. Стала профессией систематизация признаний раскаявшихся и наглой лжи нераскаявшихся палачей, оформлены и пронумерованы протоколы и стенографические записи сдерживаемых рыданий уцелевших жертв, и из них, этих рыданий, одни воздвигли внушительный невидимый пантеон памяти жертв Холокоста, а другие построили себе не менее внушительные, но совсем реальные виллы с бассейнами и сателлитными антеннами. Слова «Циклон-Б», «газовая камера» или «окончательное решение» постепенно утратили свою первоначальную демоническую неправдоподобность, став будничной атрибутикой равнодушных газетных статей, приуроченных к круглым датам. Одним словом, уволь меня от так называемой полноты повествования, которой нас обучал на уроках литературы Элиезер Пинкус, мир его праху, и от необходимости повторять до боли знакомые, а может, и уже надоевшие тебе вещи.
Достаточно будет сказать, что эпидемия тифа в концлагере приобрела катастрофические размеры, и здешняя комендатура оказалась в тупике, потому что Флоссенбург технологически был не в состоянии справиться с таким количеством трупов — ему было далеко до совершенства крупных фабрик смерти в Польше. Пришлось жечь огромные костры из человеческих тел, масштабам которых позавидовала бы и святая инквизиция на пике своей деятельности. Бензин в смеси с отработанным машинным маслом завершал процесс. Огромные столбы черного дыма с сажей поднимались к потусторонним мирам, чтобы и там знали, насколько преуспело в своей эволюции земноводное, некогда выползшее из пещеры, а уже потом, на своих двоих, дошедшее до создания портрета Моны Лизы и Девятой симфонии. Несгоревшие останки бульдозерами сталкивали в огромные траншеи, и песчаная почва навсегда упокаивала в себе судьбы, смех, мечты и стремления, радикулит, я тебя люблю, что у тебя сегодня по географии и что пишет тетя Лиза. Прощайте, братья, мир вашему праху, покойтесь в мире!
С тремя загребскими евреями я толкал двуколку с трупами, почти скелетами, сваленными в деревянный короб на колесах. Над бортиками двуколки торчали, как сломанные ветки, ноги и руки. Самое страшное, что скоро я стал отупевшим грузчиком, перестал испытывать ужас и свыкся со своей работой так же, как мои бывшие солагерники по «спецобъекту А-17» свыклись с вагонетками с чугунными болванками.
И все же, вероятно, душа моя не совсем омертвела, потому что там, в адском столпотворении больных, умирающих и мертвых, среди стонов и зловония я встретил — клянусь, это чистая правда! — моего милого, дорогого моего ребе Шмуэля бен Давида, и последний росток чувств, чудом уцелевший в пустыне охватившего меня равнодушия, расцвел, как пион. Ребе исполнял роль лагерного врача, бессильного исцелить кого бы то ни было, но способного облегчить страдания — добрым словом, водным компрессом или доброй старой молитвой. Так что мы, обреченные среди других обреченных, могли хоть иногда урывками видеться. Не знаю, радость или муку несли мне эти наши мимолетные встречи. На долю ребе выпали такие мытарства, что, будь я автором, непременно описал бы их в отдельном романе. Тогда, из Львова, он все же добрался до нашего оккупированного Колодяча, чтобы убедиться, что все, буквально все наши родные и близкие были угнаны или расстреляны прямо там, на месте, в том самом овраге над речушкой, который я так любил. О судьбе Сары и детей он ничего не знал, да и не мог знать, потому что вместо того, чтоб попытаться уйти на Восток, он ушел на Запад, в Варшаву, к окруженным повстанцам квартала Муранов, дравшимся не на жизнь, а на смерть — одним словом, в варшавское гетто, где и был арестован. От расстрела на месте его спасли те самые польские документы врача, ординатора клиники офтальмологии, которые и привели его сюда — оказывать помощь тем, кто умирал у него на руках.