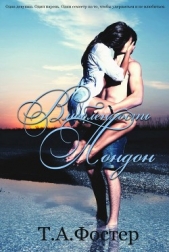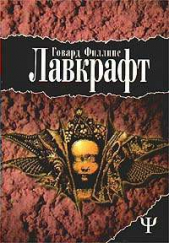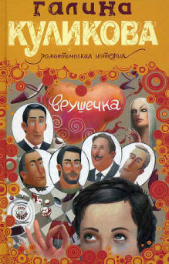Мой золотой Иерусалим

Мой золотой Иерусалим читать книгу онлайн
Современная английская писательница Маргарет Дрэббл (р. 1939 г.) широко известна как автор более десяти романов, героинями которых являются женщины. Книги М. Дрэббл отмечены престижными литературными премиями и переведены на многие языки. Романы «Камень на шее» (1965) и «Мой золотой Иерусалим» у нас в стране публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наверно, больница Св. Эндрю была самым печальным местом на свете. Правда, слабые попытки скрасить жизнь пациентам здесь делали — по стенам, например, шли фризы с изображением пухлых кроликов, а к нам в бокс время от времени заглядывала одна особенно усердная сестра, она болтала со мной и трясла у Октавии перед носом плюшевым мишкой. Октавию мишка не интересовал, она вошла в тот возраст, когда влекут лишь твердые, пригодные для чесания десен предметы, или, на худой конец, бумага, но сестра этого не замечала. Мне казалось, что я провела в больнице бесконечное количество недель, так как Октавию держали долго, и за все это время я только раз встретила мать другого ребенка. Мы дважды столкнулись с ней при входе в палату и во второй раз, скорее всего случайно, одновременно направились в столовую, а там, сев за один столик, каждая со своим чаем, обменялись дрожащими быстрыми улыбками. Обычная пустая болтовня здесь была неуместной, ибо любой банальный вопрос в этих обстоятельствах мог расшевелить затаенный страх, обнажить трагедию, поэтому я ограничилась тем, что спросила:
— Как вам удалось сюда пробраться?
Мне хотелось поговорить с ней, она внушала симпатию. На ней было серое пальто с поясом и меховым воротником. Светлые волосы, расчесанные на прямой пробор, мягкими волнами падали на плечи и на спину. Черты ее нежного, продолговатого лица с круглым подбородком были расплывчаты, и, тем не менее, оно имело хорошую форму и запоминалось, от него веяло мягким спокойствием. Она казалась старше меня и производила впечатление человека, владеющего речью. А я так устала объясняться со здешним персоналом, в большинстве своем неспособным точно выражать мысли.
— Ну я-то прохожу спокойно, — ответила мне женщина. — Перед тем как положить сюда сына, я заставила их дать мне письменное разрешение посещать его. А теперь остается только предъявлять это разрешение.
— Какая предусмотрительность! — восхитилась я. — А мне пришлось устроить истерику.
— Да что вы? — улыбнулась она, явно преисполнившись почтением. — И подействовало?
— Как видите!
— А я всегда боялась поднимать шум, вдруг скажут: «У нее нервы не в порядке, ее нельзя допускать к детям». Боялась, что меня, чего доброго, уложат в постель.
Я подумала, что мой случай тем более мог иметь такие последствия, и вспомнила рассказы Лидии о том, как ей запретили делать аборт, опасаясь, что это может нарушить ее душевное равновесие. Очевидно, степень нормальности не менее мудреная штука, чем степень ответственности.
— Ну, вам, во всяком случае, не к чему было учинять беспорядок, вы обо всем позаботились заранее. А я просто не догадывалась, что будет, иначе тоже, наверно, приняла бы меры.
— Заранее это представить себе нельзя, — возразила моя собеседница. — В первый раз я тоже не догадалась. К первому ребенку меня не пускали. Пришлось мужу написать им.
— Это помогло?
— Да, конечно. Муж, знаете, имеет тут некоторое влияние. Незначительное. Без связей, пусть даже небольших, я не знаю, что бы я делала. — Она слабо улыбнулась и только тогда я заметила, какой у нее утомленный вид.
— Значит, у вас не единственный ребенок? Есть еще? — спросила я.
— Да, сейчас здесь у меня уже второй, — пояснила она. — Второй сын.
Мы помолчали: вероятно, она ждала, что я начну расспрашивать, чем он болен, но мне не хотелось, и, как видно, благодарная за эту мою сдержанность, она продолжала:
— У них обоих одно и то же. Так что во второй раз я уже знала, как все будет. Несколько лет чувствовала, к чему идет дело. От этого еще трудней. Считается, что когда знаешь заранее, легче, но это не так — только хуже.
— Почему же вы и второго сюда положили?
— Почему? Да ведь это лучшая детская больница. Разве вам не говорили?
— Конечно говорили! Еще бы! Но я считала, что во всех больницах так говорят.
Она снова улыбнулась, но не моей наивности — ее серьезная лучистая улыбка просто выражала усталую благожелательность.
— Нет, — сказала она, — это действительно самая лучшая больница. Вам очень повезло, что вы сюда попали. Они здесь творят чудеса. А у вас, наверно, первый ребенок?
— Да, первый.
— Желаю, чтобы со вторым вам больше повезло, — сказала она, допивая чай.
— Второго я заводить не собираюсь.
— И я так говорила, — отозвалась она. — Меня заверили, что со вторым этого не будет, что такое не повторяется. А потом объясняли уже каждый по-разному. Впрочем, это неважно, я бы все равно родила второго.
— Как же у вас хватает сил выдерживать? — спросила я.
Я не хотела ни о чем спрашивать, вопрос вырвался сам собой, и мне стало очень неловко, тем более что женщина держалась хотя и доброжелательно, но отчужденно, выражая скорее чисто человеческое участие, чем личную заинтересованность. Однако она отнеслась к моему вопросу спокойно, видимо, ей задавали его часто.
— Не хватает! — ответила она.
Взяв ложечку, моя собеседница начала помешивать чаинки на дне чашки, внимательно в них всматриваясь, словно они — темно-коричневые и распаренные, скрывали ее судьбу и движением ложки она могла эту судьбу изменить.
— Сначала я делала вид, будто болезнь сына меня не тревожит. Когда говорила с друзьями, отшучивалась, а с родными старалась преуменьшить опасность, знаете, как мы все в таких случаях. Правда, удивительно, как мы всегда стремимся все сгладить? Но в конце концов мне надоело. Я устала притворяться ради того, чтобы щадить других. Теперь мне все равно, пусть видят, как мне тяжело.
Она замолчала, будто сказала все, что могла. Я тоже молчала, пораженная этой горестной исповедью о страданиях, к которым сидевшая напротив женщина, очевидно, была приговорена на всю жизнь. И все же я не могла примириться, не могла согласиться с тем, что какие-то осложнения при родах, какие-то мелкие неполадки в организме ребенка могут так искалечить, деформировать и надломить характер его матери! Ведь теперь ей не осталось ничего, кроме как искать опоры в своем достоинстве, подобно тому, как надломленная лоза продолжает грациозно расти, опираясь на стену, освещаемую солнцем. А в том, что она несла свое горе с достоинством, сомнений не было, она оберегала себя и своих близких от воздействия всего уродливого, что так часто сопутствует тяжелой болезни.
Минуты две мы сидели молча, и я не намеревалась больше ни о чем спрашивать, но по неугомонности своей натуры не могла успокоиться — словно пес, который все возвращается к старой обглоданной кости. Я должна была задать ей мучивший меня вопрос, хотя и не рассчитывала получить ответ — знала сама, что ответа нет, но мне казалось, эта женщина поймет, почему я ее спрашиваю.
— А что же делать другим? — спросила я ее. — Всем остальным?
— Остальным? — медленно повторила она.
— Да, тем матерям, кто не смог попасть сюда, — объяснила я. — Тем, у кого нет денег. Нет связей. Тем, кто не решился закатить истерику.
— А, вот вы о чем, — протянула моя собеседница.
— Ну да. Каково им?
— Не знаю, — все еще не поднимая глаз, медленно проговорила она. — Не знаю. И не вижу, чем я могу им помочь.
— Но мысль о них вас не беспокоит? — не унималась я, боясь растравить ее еще сильней, но не в состоянии отступить.
Сделав над собой усилие, она попыталась сосредоточиться на моем вопросе. Потом заговорила, и я с нелепой надеждой ждала ее ответа.
— Раньше меня это тоже беспокоило, — призналась она. — Когда я начала сюда ходить, чужие дети волновали меня не меньше, чем мой собственный. Я утешалась тем, что говорила себе — никто из их матерей не переживает того, что переживаю я. Они не так сильно любят и беспокоятся, иначе тоже добились бы разрешения. Но это, разумеется, чепуха.
Она посмотрела на меня, ища подтверждения, и я кивнула, так как была согласна с ней.
— На самом деле они тоже любят и тоже беспокоятся, — продолжала женщина, — но просто они погружены в это меньше, чем я. Однако со временем, после того как мои злоключения растянулись на годы, я стала думать, что мне, в общем-то, нет дела до других. И знаете, ведь так оно и есть. Мои заботы — это мои заботы, и этим все сказано. У меня нет сил беспокоиться о чужих детях. Они не имеют ко мне отношения. Мне едва хватает времени, чтобы заботиться о себе. Если я не буду в первую очередь думать о себе и о своих детях, они погибнут. Вот я и думаю только о своих, а о других пусть беспокоятся их родные.