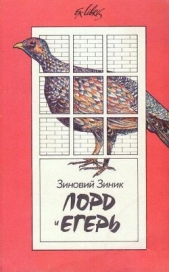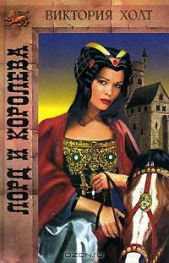Стрекоза ее детства
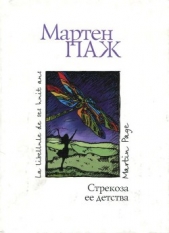
Стрекоза ее детства читать книгу онлайн
Юная сирота Фио Регаль учится на юридическом, увлекается рисованием, зарабатывает на жизнь шантажом наобум, основываясь на инстинктивном убеждении в том, что любому богатому есть что скрывать… водит дружбу с экстравагантной Зорой, бывшей топ-моделью, ополчившейся против всего и вся, живет скромно и мечтает разве что не «превратиться в кого-то, кого не сможет узнать та восьмилетняя девочка, которой она когда-то была». Однако судьба вынесет ей свой, звездный, приговор.
Роман о ценностях современной жизни и хрупкости человеческих чувств, сочетающий в себе достоинства притчи с увлекательностью авантюры и глубиной тонкой психологической драмы. Книги Мартена Пажа (1975), «властителя душ и умов сегодняшних молодых французов», пользуются успехом далеко за пределами его родины: их переводят на два десятка языков, и буквально растаскивают на цитаты.
Книга ранее выходила под названием «Стрекоза ее восьми лет»
Это скорее не роман, а притча, умная, тонкая, рассказанная с восхитительным французским чувством юмора. Притча о славной, не похожей на других девочке без определенных занятий, которая попадает в нереальную ситуацию… Дух Бальзака здесь, конечно, витает, как витает он над прозой многих французских авторов. Присовокупите владение неожиданными сюжетными поворотами и блестящий язык — и молодой француз Мартен Паж окажется в числе писателей, мимо книг которого не хочется проходить.
Комсомольская правда
У Мартена Пажа есть этот тонкий, яркий дар, заставляющий нас верить в самые невероятные небылицы. Все потому, что он воплощает свои фантазии на удивление убедительно, как с литературной, так и с психологической точки зрения.
T?l?rama
Искрящийся стилистическими находками, этот роман о разрушительной кабале славы при всей серьезности содержания написан удивительно легко и «вкусно».
La Vie
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он принадлежал к разряду просвещенных психопатов. Ему не грозило закончить свой путь в тюрьме или в сумасшедшем доме, скорее во главе какого-нибудь учреждения культуры или академии. Благодаря воспитанию и влиянию среды он научился сдерживать свои садистские наклонности. Он не был убийцей с оружием в руках не потому, что это плохо, а потому, что — и это гораздо хуже — такое убийство выглядит неподобающе. Он убивал словами, совершал свои гнусности на первых полосах газет, истреблял публично то самое искусство, верным рыцарем которого себя мнил. Он был готов многое принести в жертву искусству, не обращая внимания на то, что этим многим являлось само искусство. На торжественных церемониях, таких как коктейли и презентации выставок, он разил врагов своей улыбкой, в упор не узнавая знакомых, обдавал презрением и всячески использовал свое положение в отношении более молодых или менее именитых. Он заклинал смерть незримыми человеческими жертвоприношениями, жертвуя не во имя истины, а как раз ею самой, без колебаний меняя ее обличье как одежку, в зависимости от погоды. Его деятельность омрачалась лишь болезнью, которая постепенно умерщвляла его плоть. В его теле обосновался рак печени. Но это не сильно его пугало, поскольку всю жизнь он верил только в то, что отражается в зеркале. Причем он предусмотрительно избрал для себя особые зеркала — не те, для массового потребителя, что можно купить в магазине, а те, в которых он находил наилучшее, а значит, наивернейшее свое отражение: такими зеркалами ему служили газеты, телевизионные камеры и восхищенные глаза узкого круга его страстных поклонников. В них благодаря макияжу, свету софитов и мириад обожающих глаз на его теле не было видно никаких следов болезни.
И в прессе, и в обществе он считался страстным защитником искусства, потому что написал целую книгу под названием «Защита искусства»; он также слыл борцом за свободу, поскольку написал пламенное воззвание «Во имя свободы». Помимо безупречного вкуса он отличался мужеством, которое заставляло его сражаться с господством англосаксонской культуры, укрепляя тем самым господство своих друзей. Он не терпел, когда к произведениям искусства относились как к товару, но не настолько, чтобы ими не торговать, сколотив таким образом приличное состояние на торговле предметами искусства и собственными работами. Он воплощал собой тип свободного оригинала, эдакой ошибки природы весом в восемьдесят кило, включая трость.
В своем журнале «Estomac» он напечатал хвалебную статью о Герине Эскрибане главным образом потому, что риторическое искусство позволяло обнаружить некоторые озарения в его работах. К тому же он панически боялся вовремя не распознать великого художника, а потому не скупился на признания значимости и гениальности, чтобы уж точно не промахнуться. Ведь столько гонимых при жизни художников, которых забыли защитить, узнать и понять, вошли в историю, тогда как массу самых авторитетных лиц, восхвалявших претенциозные и модные бездарности, память потомков не сохранила.
Карденаль обратился к Фио с бесконечно долгой речью. Он говорил скромно и с любовью, в основном о себе, не переставая удивляться широте этой темы. Он рассказал ей несколько историй про Амброза Аберкомбри, которые якобы происходили на его глазах; увлекся и, разоткровенничавшись, признался в близкой дружбе с великими художниками прошлых десятилетий. Фио чувствовала себя неловко рядом с этим пожилым ироничным господином, у которого так хорошо подвешен язык. Она не знала, что ему сказать, и это было как нельзя кстати, поскольку Карденаль редко задавал вопросы, а когда с ним такое все же случалось, спешил на них ответить сам. В конце концов он бросил ее, как дикий зверь растерзанную и обглоданную добычу, насытившись и удовлетворившись демонстрацией собственного величия. Его образ задел сетчатку Фиониных глаз. Она моргнула, и он исчез, словно попавшая в глаз соринка. Во время этой односторонней встречи Фио хранила молчание, но иногда безмолвие таит в себе такие громы и молнии, что может легко испепелить сухие слова самых красноречивых ораторов.
Глядя, как он удаляется, элегантно и величаво опираясь на трость, она вдруг поймала себя на любопытном ощущении своей полной отстраненности от всего происходящего с ней и окружающего ее — оно унесло ее очень далеко от трескотни бесед подвижных и говорящих цветовых пятен. Ей чудилось, что она попала в какую-то картину: но не в цветное кино, и даже не в черно-белое, и не в ускоренно-немую съемку, а в картину наскальной живописи, наподобие тех, что встречаются на стенах пещер в Ласко, где ее окружали дикие звери, пышнотелые доисторические женщины и слышались обращения к духам. В этот момент ей казалось совершенно очевидным, что она находится в какой-то пещере доисторических времен без всякого налета цивилизации, вдали от всяких представлений о какой-либо современности.
Ее ужаснула толпа и все эти отдельные личности с их потенциальной способностью превращаться в толпу. В холле скопище гостей болтало десятками языков и размахивало сотнями рук. Это было уже чересчур. Перед глазами, уставшими созерцать бесконечную череду этих беспокойных людей, все поплыло. Она кинулась в туалет, подбежала к раковине и открыла кран, чтобы увидеть и прикоснуться хоть к чему-то истинному, что течет испокон веков. Погрузив руки в ледяную воду, она успокоилась, вернувшись к привычным ощущениям, и постаралась целиком сосредоточиться на обжигающем холоде, который пощипывал ее белые пальцы.
Ей бы хотелось убежать и где-нибудь спрятаться. Требовалось найти выход — какое-нибудь место, откуда можно сбежать. Ноги сами привели ее туда, где к ней мог вернуться разум. Она очутилась на улице, ночная морось там и сям прорывалась ливнем. Волосы хлестали по лицу. Она укрылась под козырьком ворот. Ночь проглядывала сквозь ее рыжие пряди. Ее сердце бешено колотилось, а уши заложило, словно после взрыва.
Теперь они узнают, они наконец узнают правду. Она распустила волосы, и они полностью скрыли ее лицо. Стиснув кулачки, она прижала их к глазам.
~~~
Эмеральда отвела от лица Фио мокрые, окоченевшие ладони. Она заметила ее, когда уходила с выставки. Крошка, укутанная в зеленое пальто, забилась в темный уголок ночи. Эмеральда что-то шепнула своему шоферу и подошла. Чуть поодаль остановился ее «бентли», похожий на черную пантеру. Свет фар приглушал моросящий дождь. Эмеральда коснулась рукой ее лба. Фио улыбнулась и перевела взгляд к освещенному главному входу в Пале. Там виднелась целая армия гостей, которые курили и беседовали, а их глаза поблескивали в темноте.
— Не волнуйтесь. Ваши работы очень понравились. Причем всем. Даже Карденаль и Гранвель впервые в унисон запели дифирамбы. Шарль Фольке вас повсюду разыскивает. И мне думается, он счастлив, как никогда. Теперь у вас начнется новая жизнь.
Внезапный ливень пролил свои крупные капли в ночь. Носовым платком Эмеральда вытерла лицо Фио. Как-то раз, лет пятнадцать назад, Амброз сказал ей весьма любопытные слова. В тот момент она не придала им особого значения, но теперь, глядя на девушку, понимала, что сказал он их не случайно. Своим тихим голосом, который до сих пор звучит у нее в ушах, Амброз тогда не то чтобы сделал признание — он вообще никогда и ни в чем не признавался, ни в своей любви, ни в своей ненависти, потому что, как он любил повторять, он не верил в то, что можно передать словами. Но в тот раз слова беспрепятственно слетали с его языка, словно он рассказывал сказку. Он вытянулся в шезлонге, в солнечных очках его глаза казались черными; кот вспрыгнул к нему на колени, и, лаская кота, он сообщил ей о смерти одного из своих протеже. Юный художник в расцвете славы умер от передозировки. На этой фразе Аберкомбри повернулся к ней, плача и смеясь одновременно — его губы улыбались, а по щекам из-под черных очков катились слезы, — и сказал: «Мы живем в забавную эпоху, тебе не кажется? На протяжении веков проклятием для искусства были гонения и цензура. А сегодня похоже, что таким проклятием стало признание. Дорогая, я уже не подхожу этому миру, нынче не мои времена. Думаю, я скоро отправлюсь на покой. Или же умру».