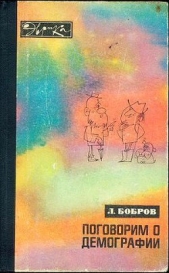Рассказы разных лет

Рассказы разных лет читать книгу онлайн
По изд.: Ф. Искандер. Стоянка человека. Повести и рассказы. СП «Квадрат», 1995.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мой собеседник остановился, о чем-то задумавшись. Я разлил шампанское, и мы снова выпили.
— Вы отрицаете героизм? — спросил я невольно.
— Нет, — живо возразил он, — героизм я сравнил бы с гениальностью, с нравственной гениальностью…
— Ну и что? — спросил я.
— Я считаю, что героизм всегда содержит в себе высшую рациональность, практическое действие, а ученый, отказывающийся работать на Гитлера, будет услышан не дальше ближайшего отделения гестапо.
— Но не обязательно отказывать прямо, — сказал я.
— Тогда отказ теряет всякий смысл, — заметил он, — смысл такого жеста никто не поймет, а образовавшийся с его уходом вакуум, если таковой образуется, более или менее быстро будет заполнен другими.
— Пусть будет так, — сказал я, — пусть его уход не будет никем замечен, для себя, для своей совести он это может сделать?
— Не знаю, — сказал он и как-то странно посмотрел мне в глаза, — я о таких случаях не слыхал… Это слишком умозрительный максимализм, карамазовщина… Впрочем, я знаю, что у вас и на героизм смотрят по-другому…
— У нас считается, что героизм можно воспитывать, — ответил я с некоторым облегчением, возвращаясь к более ясной теме. В последнюю минуту я чувствовал, что он меня не понимает.
— Не думаю, — покачал он головой, — в наших условиях, в условиях фашизма, требовать от человека, в частности от ученого, героического сопротивления режиму было бы неправильно и даже вредно. Ведь если вопрос стоит так — или героическое сопротивление фашизму, или ты сливаешься с ним, — то, как заметил еще тогда один мой друг, это морально обезоруживает человека. Были и такие ученые, которые сначала проклинали наше примиренчество, а потом махнули рукой и стали делать карьеру. Нет, порядочность — великая вещь.
— Но ведь она, порядочность, не могла победить режим?
— Конечно, нет.
— Тогда где же выход?
— В данном случае в Красной Армии оказался выход, — сказал он, улыбнувшись своей асимметричной улыбкой.
— Но если бы Гитлер оказался достаточно осторожным и не напал на нас?
— Он мог избрать другие сроки, но не в этом дело. Дело в том, что сами его лихорадочные победы были следствием гниения режима, которое без Красной Армии могло бы продлиться еще одно или два поколения.
Но как раз в этом случав то, что я называю порядочностью, приобретало бы еще больший смысл как средство сохранить нравственные мускулы нации для более или менее подходящего исторического момента.
— Но мы отвлеклись, — сказал я, — что же было дальше?
— Одним словом, — начал он, снова закуривая, — около трех часов длилась охота за моей душой. За это время он несколько раз выходил и снова заходил в кабинет. В конце концов мы оба устали, и он вдруг повел меня, как я понял, к своему начальнику. Мы вошли в огромную приемную, где за столом, уставленным множеством телефонов, сидела немолодая женщина, довольно полная брюнетка. В приемной стояли еще три человека, в одном из них я узнал того, кто заходил за папкой. Женщина говорила по телефону. Она разговаривала с дочерью. По-видимому, дочь возвратилась с какого-то загородного пикника и сейчас, задыхаясь, рассказывала о своих впечатлениях. Это чувствовалось даже на расстоянии от трубки. Было странно все это слышать здесь. На столе зазвенел звонок.
«Ну ладно, хватит», — сказала женщина и положила трубку.
Она встала и быстро прошла в кабинет. Четверо гестаповцев приосанились.
Через пару минут она вышла.
«Пройдите», — сказала она и, проходя к стопу, бросила на меня взгляд, от которого мне стало не по себе. Видимо, так может посмотреть только женщина. Я хочу сказать — так подло. В ее взгляде не было ни ненависти, ни презрения, которого в любой момент можно было ожидать от этих четверых. В ее взгляде было жгучее кошачье любопытство к моим потрохам и уверенность в хозяине. Может быть, сказалась усталость, но я тогда вдруг почувствовал, что еще какое-то мгновенье — и эти самые потроха полезут горлом.
Мы вошли. Это был еще более роскошный кабинет с еще более огромным столом, уставленным разноцветными телефонами и чернильным прибором в виде развалин старинного замка. За столом сидел крупный мужчина, чем-то напоминающий директора процветающего ресторана. Это был брюнет в песочном костюме и ярком галстуке.
Никому из нас он не предложил сесть, и мы стояли возле дверей. Те трое поближе к столу, а я со своим пастырем подальше.
«Так это он колеблется? — громовым голосом спросил хозяин кабинета, вытаращив на меня недоуменные глаза. — Молодой ученый, подающий надежды, отказывается с нами работать? Не верю!» — вдруг воскликнул он и встал во весь свой внушительный рост.
Он смотрел на меня недоумевающими глазами, как бы умоляя меня тут же опровергнуть эту ложную, а может, даже и злоумышленную информацию своих помощников. Как только он заговорил, я понял, что он подражает Герингу. В те годы у функционеров рейха это было модно, каждый избирал себе маску кого-нибудь из вождей.
«В то время как орды азиатов рвутся к священным землям Германии, в то время как воздушные гангстеры бомбят ни в чем не повинных детей!»
Он протянул руку в сторону окна, где на той же лужайке все еще бегали дети с футбольным мячом. Наверное, уже другие, но тогда мне показалось, что и эта лужайка, и эти дети специально выращены гестапо для наглядного примера.
«Я не отказываюсь…» — начал было я, но он меня перебил.
«Я же говорил, вы слышите!» — воскликнул он.
Мне показалось, что сейчас он вскочит на стол, подхваченный силой пафоса. Но он его вовремя переключил, обращаясь к остальным слушателям: «Значит, не сумели объяснить ему его долг, не нашли тот единственный ключ, на который закрыта до поры каждая германская душа…»
Он смотрел на меня своими коровьими глазами, и по взгляду его я понял, что он как бы просит моего согласия, и даже не столько для того, чтобы я с ними работал, сколько для поддержания его педагогического авторитета. Давай вместе осрамим этих бездельников, как бы предлагал он мне.
«Кровавый шут», — мелькнуло у меня в голове.
«Видите ли…» — начал я, чувствуя, что этот педагогический урок мне дорого обойдется.
Но в это мгновенье, к моему счастью, приоткрылась дверь. Он посмотрел на дверь взглядом бешеной коровы. В дверях стояла секретарша.
«Берлин», — тихо сказала она, кивнув на телефон.
Он схватил трубку, и сразу же стало ясно, что мы исчезли с лица земли и даже сам он, склонившись над трубкой, как-то соответственно уменьшился.
Все бесшумно вышли в приемную, а из приемной в коридор. Секретарша уже не замечала нас.
Мы с ловцом моей души вернулись в его кабинет. Я почувствовал, что я ему смертельно надоел. Кроме того, мне показалось, что он, как и другие его коллеги, где-то в глубине души доволен, что у начальника сорвался этот педагогический урок. Во всяком случае, больше он со мной не говорил.
Он подписал мне пропуск, вывел на листке бумаги номер телефона и сказал: «Если решите, позвоните по этому телефону».
«Хорошо», — согласился я и вышел из кабинета.
Не помню, как я нашел обратную дорогу. Я шел по улицам и чувствовал во всем теле необыкновенную слабость и удовольствие, какое бывает, когда после долгой болезни впервые ступаешь по земле. Убедившись, что за мной никто не следит, я изорвал бумажку с телефоном и выбросил в урну. Правда, почему-то я все же постарался запомнить номер телефона.
На следующий день я, конечно, не позвонил. Теперь каждый день я жил в каком-то тревожном ожидании. Однажды, когда я пришел с работы, жена мне сказала, что звонил телефон, но, когда она подошла, трубку повесили. Через несколько дней я сам поднял трубку на звонок и опять ничего не услышал, вернее, услышал, что на том конце кто-то осторожно положил трубку. Или мне показалось?
Я сам не знал, что подумать. Мне стало казаться, что на улицах и в автобусах я иногда ловлю на себе взгляд сыщика. В проходной института я нервничал, когда дежурный охранник как-то слишком многозначительно и долго просматривал мой пропуск.