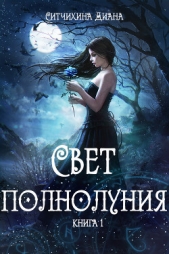Новый Мир ( № 2 2007)
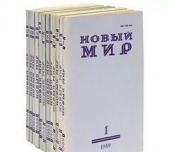
Новый Мир ( № 2 2007) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
“Записки из подполья” состоят из двух частей, “Подполья” и “По поводу мокрого снега”. Первая часть — это философский экзистенциальный трактат, вторая — чистая литература. Каково их сочетание, в чем заключается их единство? Герой второй части по крайней мере на двадцать лет моложе героя первой части. Герой первой части “знает себя” (экзистенциальный герой). Герой второй части себя еще не совсем знает и, уединившись, непрерывно фантазирует — не только воображая свое лицо умным и благородным, но и видя себя героем нелепых романтических сюжетов. На первый взгляд “По поводу мокрого снега” — это хоть и живой, но не такой уж значительный рассказ в духе раннего Достоевского. Но по существу это тонкая, с двойным дном пародия не только на раннего Достоевского, но и вообще на литературу. По ходу рассказа все происходящее в нем исподтишка имитирует, то есть пародирует так же исподтишка, знакомые читателю сюжеты. Например, покупка немецкого бобрика на воротник имитирует “Шинель” Гоголя, а о других сюжетах он знает и сам, что все это из Сильвио и из “Маскарада” Лермонтова. Наконец, центральный сюжет, столкновение-поединок героя с проституткой, — скажем о нем отдельно. С самого момента, когда герою “ярко представилась нелепая, отвратительная, как паук, идея разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается”, читатель (если, разумеется, этот читатель принадлежит к иудеохристианской цивилизации) начинает смутно ощущать, что имеет дело с вариантом издавна знакомого сюжета о кающейся блуднице. (О символической важности для нашей цивилизации этого сюжета говорит то, что художественный образ раскаявшейся блудницы Марии Магдалины, ничего, кстати, общего не имеющий с евангельской Марией Магдалиной, коллективно создавался в течение первых веков нашей эры, пока не был, так сказать, официально утвержден в 591 году в проповеди папы Григория Великого: “Ту, которую Лука называет грешницей, которую Иоанн называет Марией, мы полагаем Марией, из которой, согласно Марку, были изгнаны семь бесов”.) То, что Достоевский выбирает для кульминации именно этот, такой изначально моралистский и экзальтированный сюжет, и то, как он выворачивает его наизнанку, превращая в сюжет волевого самоутверждения слабого мужчины, а не слабой женщины, указывает, насколько бездонно двойное дно “Записок из подполья”.
На первый взгляд конструкция “Записок...” состоит в том, что вторая часть призвана иллюстрировать сказанное в первой части, показать на конкретном примере проявление “своеволия”. То есть литература, оперирующая в области конкретного, призвана иллюстрировать философскую мысль, оперирующую в области абстрактного, совершенно так же, как в точных науках эксперимент иллюстрирует и либо подтверждает, либо отвергает научную гипотезу. На самом деле тут подтасовка и иллюзия: своеволие, о котором говорится в первой части, — это совсем не то своеволие, которое демонстрируется во второй . В первой части “Записок...” своеволие адресуется к проблеме “хрустального дворца”, то есть теоретическому (и критическому) проекту рациональной организации идеального общества. Хотя подпольный называет человека, который хочет по своеволию разрушить “хрустальный дворец”, “ретроградным господином”, в иерархии Заратустры он занял бы весьма высокую позицию, даже если и далеко еще недостаточную на пути к Сверхчеловеку. Человека, бунтующего против мудрецов, желающих свести жизнь к полной ее объяснимости, Ницше ставит выше Сократа — немалое достижение. Но что может быть ничтожней человека, упражняющего свою волю над беззащитной и стоящей на самой низкой ступеньке общества проституткой? Вот в этой-то тонкости, этом несовпадении/несоответствии между тем, что говорится в первой, теоретической части “Записок...”, и тем, что происходит во второй, которая как будто должна иллюстрировать первую, и содержится намек на истинное содержание “Записок из подполья”, то содержание, о котором никто никогда не говорил: литература не способна иллюстрировать своими конкретностями абстрактности философии, обе слишком смотрят в разные стороны. Это странный и не очень-то комфортабельный вывод. Глупо будет утверждать, будто Достоевский совершенно сознательно вкладывал такой смысл в “Записки...”, но кое-что он тут понимал — особенно в тот момент, когда писал эпизод “духовного” соблазнения проститутки своим героем, — когда он писал этот эпизод, то непременно ухмылялся, невозможно себе представить, что не ухмылялся. Тут все исполнено иронии, а ведь кто же когда брался всерьез исследовать иронию Достоевского? До этого эпизода сознание героя “Записок...” настолько невразумительно, что он путает себя с разнообразными литературными персонажами и живет в разнообразных литературных сюжетах, но тут он поднимается на следующую ступень (шагая по таким ступеням, он постепенно станет на уровень экзистенциального философа из первой части) и начинает использовать литературу как орудие для установления своей воли. И какое же это ловкое (обманное) орудие! “Картинками, вот этими-то картинками тебя надо!” — так он думает, видя, что проститутка начинает верить развиваемым перед ней сентиментальным и романтическим сюжетикам и образам. (“Но что же сказал тебе однажды Заратустра? Что поэты слишком много лгут? — Но и Заратустра — поэт”.) Однако герой “Записок” не так уж лжет: “Что-то вы... точно как по книге...” —“Э, полно, Лиза, какая уж тут книга, когда мне самому гадко вчуже...”, и это правда, он достаточно реалистичен и даже жесток, когда описывает подноготную реальность жизни в публичном доме, когда развенчивает романтику любви к сутенерам и тому подобное. Но все равно он знает, что говорит “туго, выделанно, даже книжно... как „по книжке””, и он знает, что “эта книжность может еще больше подспорить делу”. Тут все смешивается, и он не просто играет (“более всего меня игра увлекала”), но и: “Я вошел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовлялась”, а к тому же: “Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные идейки, в углу выжитые, жаждал изложить”. При слове идейки мы настораживаемся, потому что тут может быть намек на связь с первой частью и с идеями, развиваемыми там, — но это вовсе не так. Идейки второй части слишком связаны с расхожими моральными понятиями, тут слишком часто мелькают слова “чистота”, “грязь”, “любовь”, “несчастный” (“я... может быть, такой же несчастный... нарочно в грязь лезу, тоже с тоски”). Вот тут в чем дело, и вот почему вторая часть в свете традиции литературного чтения кажется конкретной (и потому якобы “углубляющей”) иллюстрацией к первой части, которая в свете того же литературного чтения представляется предварительным абстрактным рассуждением. Кроме того, герой второй части кажется жальче и потому человечней героя первой части. Достоевский это делает точно и ловко: в “Подполье” герой сразу объявляет себя несимпатичным и злым человеком, а литературы на уровне конкретности (сюжета, детали) там нет, и потому нельзя увидеть этого человека со стороны (вдруг бы выказал невольно себя таким, что можно было бы его пожалеть).
Да, идейки второй части — это не идеи части первой. Герой второй части, даже если он затевает в поединке с проституткой бессовестную игру, все равно выглядит как человек с искренним чувством, когда он говорит о тоске по семейной жизни, по любви, детям (пусть даже при этом книжно говорит ). В первой части такими вещами и не пахнет, в том числе не пахнет книжностью, напротив: последнюю филиппику в повести произносит именно зрелый герой и именно против книжности в жизни: “Ведь мы до того дошли, что настоящую „живую жизнь” чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше”.
Истинный смысл “Записок из подполья”, как он раскрывается внимательному читателю на рубеже двадцать первого века, состоит вот в чем.