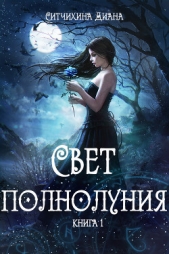Новый Мир ( № 2 2007)
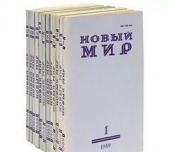
Новый Мир ( № 2 2007) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По инерции мы привыкли думать, что самый дерзкий враг рутины, привычного — это искусство, в частности литература. И то сказать, искусство весьма чувствительно к предощущению перемен в обществе и человеке, но оно никогда не было причиной этих перемен. Но вот рациональная (в том числе научная) мысль — о да. Европейская мысль медленно, но верно и неуклонно уходила от религиозной догмы, пока не оказалась там, где находится в настоящий момент. Из всех видов культурной деятельности, на которые подвигнут человек, искусство, после религии, наиболее консервативно, потому что зависит от иррационального в человеке. Грубая ошибка называть Кьеркегора и Ницше революционерами и новаторами в области мысли: они куда скорей были контрреволюционеры, точней, контрэволюционеры — в том смысле, что интуиция толкнула их на бой с тенденцией распространения рациональной мысли в процессе изменения западной культуры. В конечном счете они потерпели поражение, несмотря на сегодняшний их романтико-мифический статус, потому что оба были не просто мыслители, но идеологи. (Они бы первые оценили иронию такого положения вещей.)
Вот еще один повод называть их трагикомическими фигурами.
Обратимся теперь к одной любопытной цитате. “У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах, — они всё те же, даже для приличия не изменятся и всё будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же, в русской земле, нет дураков; это известно; тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель. Следственно, и надзвездных натур не водится у нас в чистом их состоянии...”
Эта весьма остроумная тирада принадлежит “парадоксалисту” из “Записок из подполья” Достоевского. Есть причины, почему имя Достоевского еще не было здесь упомянуто. Хотя Достоевский высказал почти те же идеи, что и Ницше, хотя он, как Кьеркегор, писал экзистенциальные романы, никто не назовет его трагикомической фигурой, или, как говорит его персонаж, “надзвездным романтиком”: он был для этого слишком литератором, то есть писал менее прямо и менее субъективно, скрываясь за своими персонажами.
Если вы живете в старом каменном доме, если ваша одежда пусть не модна, но добротна, если вы, проснувшись, более или менее знаете, что будете есть на завтрак, обед и ужин, если ваша жизнь сегодня не слишком изменилась по сравнению с жизнью вчера, а завтрашний день не слишком изменится по сравнению с сегодняшним — если ваше существование организовано таким образом, то вы неизбежно будете мыслить совсем иначе, чем человек, который живет в землянке, неизвестно во что одет, не знает, что с ним случится завтра, и так далее. Сравнение это не имеет ничего общего с буквальной социо-материальностью жизни, оно относится к психологическому различию существования западного и российского человека. Разумеется, желание взлететь в небеса (говоря аллегорически) или хотя бы на какое-то время вспорхнуть над землей свойственно всем людям, но одно дело попытаться прыгнуть вверх, отталкиваясь от твердого фундамента тысячелетней цивилизации, и совсем другое, стоя неизвестно на какой, и даже весьма зыбкой, почве. Чем тверже культура, тем смелей интеллектуальный бунт против нее. Это, как сказал бы персонаж “Записок из подполья”, “просто закон природы” (третий закон Ньютона, можно бы уточнить).
Достоевский не бунтовал против существующего порядка вещей в культуре, как Кьеркегор и Ницше. В зрелые годы он стал националистом, защитником социального статус-кво (монархии) и “человеком толпы” с достаточно низкими предрассудками по отношению к полякам, французам, евреям, китайцам, туркам и проч. (немыслимое дело для Кьеркегора и Ницше). Достоевским владел страх (как оказалось, оправданный) перед очередным русским бунтом, перед теми грозными знаками землетрясения, которые куда слышней людям зыбкой почвы, чем людям твердого поверх почвы фундамента (и тут, как почти всегда в человеческой ситуации, срабатывает ироническое предсказание, обозначенное в Библии: “Чего боится нечестивый, то и постигнет его”). Это был страх, который возникал (и до сих пор возникает) в России благодаря многим факторам ее истории — двойственности ее положения между Востоком и Западом, экономической отсталости или тому, что русский крестьянин столько столетий находился в полурабском положении, не владея своей судьбой. Этот страх как раз и делает невозможным у нас появление надзвездных романтиков — о нет, Достоевский отнюдь не по своей воле выбирал не быть надзвездным романтиком, перенося упор своего творчества с философии на литературу: литература консервативней философии и она ближе к умиляющим сердце сказкам.
Кьеркегор и Ницше были те люди, которые “упражнялись в мышлении”, наподобие персонажа “Записок...”. И эти упражнения были сопряжены с их собственным существованием в не виданной еще для европейских философов степени, то есть тут возникала прямая связь между объективностью их мысли и субъективностью их существования. Кьеркегор непрерывно писал об этике, и его жизнь можно назвать этичной — равно как и жизнь Ницше.
Достоевский не был экзистенциальным человеком, крайности его натуры достаточно известны: его нервозность, подозрительность, неуверенность в себе, вспышки злобы (свидетельство Страхова), страсть игрока — наряду с его отвагой и благородством (поведение во время процесса по делу Петрашевского) или щедростью. Всю жизнь Достоевского раздирали страсти, которые бросали его на самое психологическое дно... нет, не просто страсти, но именно неспособность не быть игрушкой в руках страстей. Этика — своего рода смирительная рубашка, которую надеваешь на себя, чтобы не быть игрушкой в руках страстей, и она производит благотворное действие: дает человеку самоуважение и тем самым возвышает его. Достоевский верил в такие самоуважение и возвышение на словах, но на деле не умел воплотить их в своей личной жизни.
Но, не став экзистенциальным человеком, Достоевский сделал то, чего не смогли сделать ни Кьеркегор, ни Ницше: в “Записках из подполья” он создал иронический образ экзистенциального героя, обнажив коренную проблему экзистенциальной философии, которую никто ни до него, ни после уже не поднимал и так не ощущал: проблему непримиримого противоречия между философией и литературой, между рациональным и иррациональным в человеке (Кьеркегор и Ницше говорили о соединении рационального и иррационального в человеке положительно).
Достоевский писал “Записки из подполья” в мучительное время своей жизни. Первая жена умирала, а он пустился за границу, преследуя Суслову. За границей Суслова отвергла его... Он работал над первой частью “Записок...”, “Подпольем”, в январе — феврале 1864 года, сразу после того, как вернулся из унизительной поездки, а жене предстояло умереть в апреле. В жизни людей бывают моменты, когда они теряют внутреннюю устойчивость, им не на что опереться, униженность и чувство вины правят всем. По-видимому, Достоевский испытывал такое состояние зимой 1864 года, и “Записки из подполья” были результатом этого состояния: его взгляд был устроен таким образом, что чем ниже он падал, тем ясней ему прозревались коренные истины существования. Вскоре его жена умрет, потом он женится на Сниткиной, обретет хоть какую-то стабильность в жизни и продолжит писать великие романы, в которых, по выражению Мити Карамазова, идет битва между дьяволом и Богом в сердцах людей.
Но пока он должен будет написать “Записки из подполья”, в которых речь совсем о другом и по сравнению с которыми его романы — просто розовые незабудки вдоль дороги.
Надо полагать, Достоевский ощущал какую-то неловкость перед тем, что он написал. Первая часть, “Подполье”, появилась в первом номере “Эпохи” в марте, и Достоевский писал брату Михаилу: “Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа, — то запрещено”. Эта фраза замечательна, во-первых, тем, что Достоевский проговаривает в ней свой подход к религии как потребности (совершенно в духе Вольтера), а во-вторых, тем, насколько она продолжает тут стиль “Записок...”, герой которых постоянно пытается убедить читателя — пожалуйста, господа, что бы я ни сказал тут, не принимайте всерьез, где я глумлюсь и богохульствую. Все “Подполье” сконструировано таким образом, что если в одной фразе повествователь высказывает серьезную мысль, то в следующей начинает гримасничать и пожимать плечами: “Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному таки словечку не верю из того, что теперь настрочил. То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник”. Стиль “Записок...” напоминает поединок на рапирах: удар — отскок, удар — отскок, в то время как стиль Кьеркегора и в особенности Ницше — это стиль непрерывно наносимых в разные стороны ударов.