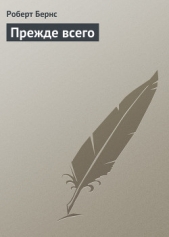У стен Малапаги

У стен Малапаги читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За забором, на обочине, где ноги по щиколотку увязали в мягкой, тёплой пыли, а затем на булыжной неуютной для босых ног мостовой, когда ты уже видел две больших акации, росших под окном бабушкиного дома, силы покидали тебя. Наступало время изумления и тишины, не доносился грохот, прекращались крики, вой, кривляние перед казнью, тёмная громада внутри тебя, громада из дыма и смрада, сальных запахов, свисающих косм, рук, тянущихся выдавить тебе глаза, начинала утончаться, грани её уже теряли свою остроту, разодранные внутренности переставали кровоточить, всё затягивалось, и, — обессиленный ужасом, осознавший свою свободу, — ты, — сломленный усталостью, — опускал прямо в пыль, сладкую пыль дороги, дрожащее в твоей руке ведро.
Он знал главное: они не побегут за ним. У них было своё — подчинённое им — пространство земли, и здесь, за забором, ты был предоставлен самому себе, тёплому булыжнику мостовой, воспалённому вечернему солнцу и ещё, но об этом ты старался не думать, — маленькому страху за завтрашний день. Ты не верил, что так же, как по законам природы наступит новое утро и новый вечер, так же, как ведра воды не может хватить больше, чем на сутки, даже помня о том, что ты не моешься по утрам, экономя воду, также необходимо повторится казнь, и в конце концов окажется, — и позднее ты это поймёшь, — что в тебе уничтожили всё, что обычно называется жизнью. Ничего не забыли оставить хотя бы в насмешку.
Но сейчас, без подозрений, уверенный в сегодняшнем спасении, ты ногой открываешь дверь и сквозь прихожую с глиняным полом и керогазом на табуретке, сквозь прихожую с маленьким запасом угля и запахом укропа ты видишь её в тускнеющих медных лучах солнца, с чёрной сумочкой, коротко стриженную, старую деву, и ты знаешь, она рассказывает бабушке, — которая, сидя напротив со сложенными на животе руками, забылась, и видно, как она то замирает вся от услышанного, то распускается, набираясь сил для нового удивления и подъёма, — и в рассказе всё беспокойно, и от этого беспокойства ещё сильнее раскачивается мир, и кажется, всё вокруг хочет что-то с себя сбросить, освободиться, — ведро само выскальзывает из рук, и у тебя уже нет сил донести его до табуретки. Оно скользит на глиняный пол и расплёскивает воду. Но есть что-то, противоречащее её рассказу: маленькие крепкие руки вырезают в воздухе ладные фигурки её жестикуляций, её пафоса, её принципов, и мягкое светлое тепло, волны которого доходят и до тебя, опровергают жестокий смысл её рассказа и возвращают тебя к жизни.
Тогда по вечерам ещё приходила Настасья.
Приходил ликующий Исаак — владелец домашней аптечки, Исаак-лекарь базара.
Приходила одинокая Сарра, и в вечернем воздухе она осторожно несла своё огромное тело до табуретки, и там забывалась.
Вечер оседал пылью на листьях деревьев, на белёных стенах домов и кирпичной ограде депо.
В жёлтом вечернем мареве тихо ликовал Исаак, исходя жизнью и её теплом.
Большая Сарра, однообразная как пустыня, обмирала на табуретке, следя ослепительный полёт Исааковой жизни.
Разгорячившаяся Настасья обдавала слушателей правдивыми историями, и трепетная, смутная жизнь разворачивалась перед ними радужным диском павлиньего хвоста.
Приходила сестра Татьяна в лиловом платье с театральной сумочкой в руках, и в предчувствии её появления бабушка суетливо пудрилась, вдевала заколки в жиденькие свои косички, душилась, и теперь, в зеленоватом платье с большими розовыми цветами, зажав в потной руке большой кошелёк — строгая и напряжённо-счастливая — отправлялась вместе с сёстрами в кино на первый вечерний сеанс.
Сколько же их было — миров? Мир колонки, мир Настасьи, мир бабушки, мир Исаака и мир Сарры. И во всех этих мирах солнце в одно время закатилось за ограду депо, от позднего часа прекратилось движение машин, стало тихо, и всё вокруг исполнилось ожидания бабушки и её возвращения после картины.
Зелень лета
Она приходила к нему каждый вечер, а всё из-за невольной задержки, что произошла по смешному поводу базарного дня, да ещё, возможно, оттого, что ей вдруг захотелось посмотреть книги в этом селе с неясным названием, лежавшем в двух часах неспешной езды от Станислава. Книги не стояли на полках, как в магазинах больших городов, а грудой лежали на полу в задней комнате, где поднялась пыль от их шагов и их дыхания, потому что никто не заглядывал туда — ни покупавшие учебники первоклассники, ни редкие шофёры, случайно заскочившие в этот магазин, ни даже сама продавщица, высокая удивлённая брюнетка, — в прохладной и пустой комнате, в которой пришлось долго искать в солнечной безлюдной тишине.
Книжный магазинчик, где на крыльце в ожидании привоза учебников к осени и новому учебному году сидели малыши, сжимая в потной ладошке родительские гривенники, был сразу после закусочной для шофёров дальних рейсов, вниз по улице, жаркой, в пыльной зелени, главной улице деревни, своим левым боком он приткнулся к больнице, а фасадом, ослепительной наготой крыльца был обращён к клубу с его нарастающим к вечеру оживлением, афишками от руки и прохладой пустынного в полдень здания.
Но самое важное во всей этой случайности наверняка крылось в позднем отъезде, крылось в их страхе, рождённом опозданием, в том внутреннем подёргивании от этого страха и волнения, в чувстве общей вины, отдельного для каждого наказания и всеобщего осуждения со стороны других.
Случайно они оказались сообщниками, и эта их неожиданная отчуждённость вчерашним близким заставила взглянуть друг на друга, они потянулись один к другому, и не было в этом даже желания, а лишь страх и поиски защиты.
Дрожащие под расплавленным брезентом грузовика, с пересохшими ртами, вздыбленной грудью и перекосившимся лицом, сидели они, уткнувшись в пыльные доски кузова, уже не замечая ни выходов пород, ни дребезжания грузовичка, ни палящего солнца, они шли навстречу друг другу, и страх погонял их.
Но впоследствии более важным, значительным оказалось друтое, поздняя остановка в ночном прохладном времени одиннадцатого часа, когда лишь фары машины вырывали у темноты небольшое пространство земли, поросшее травой, хлебными злаками и изрытое кротами. Таинственен был кустарник, пугающе отчётливы и от этого слишком высоки были деревья, ночные птицы ломали тишину, но эти редкие прогалины вновь затягивались темнотой и непроглядностью ночного времени.
И постепенно дневная, что от страха, дрожь начинала переходить в предчувствие, в вечернее томительное желание, подкатывавшее к горлу. Но последнее — теперь он уверен — было друтое, потому что он помнит, как в той закусочной они купили несколько бутылок вина, и, наверное, какая-то из этих бутылок привела их друг к другу, привела по узкой тропинке между ещё неубранными и ему неизвестными хлебными злаками, привела между стогами сена к самому крайнему из них и дальнему от лагеря.
Она приходила каждый вечер, поздно, и он засыпал от напряжения долгого летнего дня и ожидания её прихода, а она приходила и, встав на колени, наклоняясь совсем низко, будила его, и первое, что он видел, открывая глаза, было её лицо, смуглое при дневном освещении, а сейчас в темноте позднего ночного времени светлое и близкое, словно принесённое им из сна.
А чтобы переспать, приходилось долго подниматься по склону холма, где разбросанные охапки жёлтого сена чередовались с кривыми иссохшими стволами яблонь, своей редкой тенью неспособными спасти их и укрыть от светлых в луне участков земной коры.
Они двигались неровно, спотыкаясь, чуть не падая, иногда вздрагивали от треска сухой ветки, от дальней переклички подгулявших компаний, от каких-то всхлипов и шорохов в моторе машины, волнения, непрерывного внутреннего испута. А ещё от путанности ночного освещения они то расходились, то лихорадочно, что больно было почти, цеплялись друг за друга. И две их тени метались, скрещивались, смыкались и вновь раздваивались, и каждая плясала, двигалась, вздрагивала сама по себе и вновь находила другую.