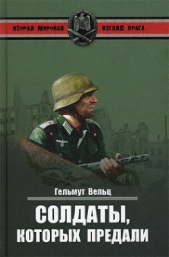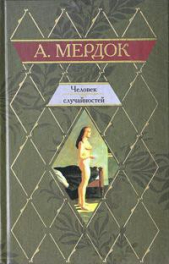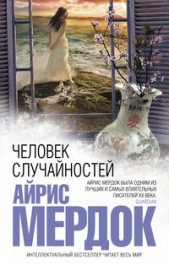Монахини и солдаты
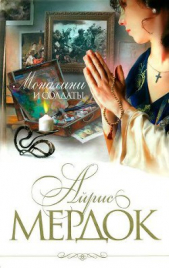
Монахини и солдаты читать книгу онлайн
Впервые на русском — знаковый роман выдающейся британской писательницы, признанного мастера тонкого психологизма.
Гай Опеншоу находится при смерти, и кружок друзей и родственников, сердцем которого он являлся, начинает трещать от напряжения. Слишком многие зависели от Гая — в интеллектуальном плане и эмоциональном, в психологическом, да и в материальном. И вот в сложный многофигурный балет вокруг гостеприимного дома на лондонской Ибери-стрит оказываются вовлечены новоиспеченная красавица-вдова Гертруда, ее давняя подруга Анна, после двадцати лет послушания оставившая монастырь, благородный польский эмигрант по кличке Граф, бедствующий художник Тим Рид, коллеги Гая по министерству внутренних дел и многие другие…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рассчитывать на Ибери-стрит не приходилось. Гертруда уехала на север с подругой, Анной Кевидж, так она написала в короткой записке, которой после долгого ожидания ответила на его вымученное письмо соболезнования, и, хотя она, наверное, уже вернулась в Лондон, он чувствовал, что связь его с Ибери-стрит оборвалась. Да ощущал ли он когда, что эти люди — его «семья»? Он не мог придумать ни способ, как восстановить эту связь, которая когда-то была столь естественной, ни предлог, под которым мог бы вновь явиться в тот дом. Без Гая это было невозможно. Он был там не нужен, нежелателен, никто теперь и не вспомнит о нем. Он для них перестал существовать. Разве Гертруда напишет ему, чтобы поинтересоваться, как он справляется? Такое представить невозможно. Однажды (это было в феврале) он осмелился позвонить Графу в офис, просто «поздороваться». Граф поинтересовался, как он живет, и Тим ответил, что живет прекрасно. Тогда он надеялся, вдруг Граф, который нравился ему, пригласит его, но куда там. Возможно, Граф вообще никого не приглашал к себе, а предложить Графу встретиться в пабе у Тима не хватило мужества. Стэнли Опеншоу был, разумеется, слишком важной особой, да все равно Джанет относилась к Тиму неодобрительно. (Теперь он пожалел, что не воспользовался возможностью подружиться с Уильямом Опеншоу.) Он подумал было позвонить Джеральду Пейвитту, но в телефонном справочнике не оказалось его номера, а потом Тим случайно узнал из газеты, что Джеральд — всемирно известный физик. Это открытие потрясло его. В его представлении Джеральд смутно связывался с телескопами, но он и думать не мог, что этот косматый оригинал, с которым он выпивал пару раз в «Пшеничном снопе», — великий человек, кандидат на Нобелевскую премию. (Они иногда сталкивались в Сохо с тех пор, как Джеральд, настоящий гурман, зачастил в находившийся неподалеку от «Принца датского» ресторан, славившийся своей кухней.) Тим чувствовал, что теперь Джеральд, скорее всего, перестанет его замечать. Белинтой был все еще в отъезде, да и в любом случае он странный тип. На свадьбу Мойры Гринберг Тима не пригласили. Его вычеркнули полностью и окончательно, и это было огорчительно.
Стоял апрель. Внизу, в гараже урчали моторы, машинам не терпелось покатить по проселочным дорогам. Солнце понемногу пригревало, и Тим уже не нуждался в шерстяных митенках для этюдов на свежем воздухе. Голубой небесный свет, проникавший сверху через фонарь, в мельчайших подробностях высвечивал рисунок голых досок пола с брошенным на него матрацем, на котором Тим просыпался по утрам с мыслью: я свободен. (Это означало, что он больше не в Кардиффе — чем он утешал себя до конца жизни.) На кухонном столике был накрыт ланч для двоих. По углам, образованным скатами крыши и полом, в образцовом порядке были сложены доски и банки с краской. Тим был аккуратен. Две противоположные вертикальные стены были побелены. Дверь, покрашенная Тимом в зеленый и голубой, вела на наружную лестницу, к туалету внизу и во двор перед гаражом. Имелся у Тима радиоприемник, но телевизора не было, не мог себе позволить, да и презирал как преступление против реального мира. Рядом с дверью стоял деревянный кухонный шкафчик с красиво расставленными тарелками и старый сундук, в котором хранилась одежда. На другой, против двери, стене он прикрепил большой лист фанеры, к которому прикнопил свои любимые рисунки. Это были кое-какие из его настоящих работ, его, а не заимствованные: распятия, старики, кормящие голубей, молодые люди, пьющие пиво, ждущие девушки. Эти рисунки тоже ждали — своего часа.
Уже давно Тим вел образ жизни одинокого художника. Он был честолюбив, но оставил честолюбивые замыслы, был разочарован, но и разочарование прошло. Он знал про себя, что он художник до мозга костей и всегда им будет. Кто он еще? Любовник, защитник, друг Дейзи. На целую жизнь хватит. Он продолжал поиски, хотя никогда не проявлял особого упорства. Всякий художник, если он не начинающий, сталкивается с проблемой расширения той границы в творчестве, которая отделяет «предисловие» от «окончания». Интенсивная работа идет в том промежутке, когда предварительный этап пройден, а конец еще не заставляет каменеть форму. Промежуток стремится сжаться, и художник должен прилагать все силы, чтобы не допустить этого. Тим смутно сознавал существующую опасность, но был беззаботен и недостаточно уверен в себе. Подсознательно он понимал, что ежедневно совершает компромисс, выбирая серость. Его попытки большей частью заканчивались «набросками» или «неудачами». Однако он продолжал рисовать, и постепенно в его рисунки возвращалась некая утраченная свежесть. Он ничего не знал, ничего не читал, но продолжал наблюдать. Тим обладал природным даром, которому завидовали мудрецы древности, — способностью просто, без усилий мысли, постигать суть! (Ему было невдомек, что это исключительное качество, он думал, каждому это доступно.) Сей дар, конечно, не был залогом того, что его обладатель непременно станет прекрасным художником или вообще станет им. В случае Тима такой дар был чуть ли не помехой. Он получал такое наслаждение, любуясь миром, что иногда думал: зачем его рисовать, вот он, здесь, передо мной, если только ты не великий, к чему все хлопоты, почему просто не жить в счастье с Природой, пока глаза могут видеть? Даже Сезанн сказал, что ему вряд ли по силам создать цвета, какие он видел вокруг.
Тим был неуч. Один из преподавателей в Слейде (тот, что предрек ему будущее фальсификатора) убеждал его заняться математикой, но Тим был ленив и просто знал, что ему это будет не по зубам. Однако, как ласточка, которая летит из Африки в свой амбар в Англии, где она родилась, так и Тима направляло наитие. Он подхватывал идеи, касавшиеся «формы», у преподавателей и сокурсников, хотя казалось, что нет ничего такого, чего бы он уже не знал. Он «чувствовал» растения и как сочетаются их части. Инстинктивно понимал, как растут перья, образуя крыло. Собственное тело поведало ему о гравитации, тяжести, падении, течении. Он увиливал от полезных уроков анатомии, но, рисуя Перкинса или полураздетую Дейзи на кровати, «знал», что у них под кожей. Знал все о свете, не заглядывая в научные книги. Еще пятилетним рисовал цветные круги. Наверное, если бы его убедили, что необходимо изучать геометрию, он бы, к собственному изумлению, больше зарабатывал. Но и при его невежестве казалось, будто в какой-то иной жизни он мельком увидел некоторые из рабочих чертежей Бога, а в этой почти забыл их, но не окончательно.
Когда товарищи по Слейду своими насмешками отвадили его от натурных классов, он с фанатичным упорством занялся абстрактной живописью. Он жил в море миллиметровки. Квадратики сменились точками, потом булавочными уколами, потом чем-то вовсе невидимым. Это походило на то (говорил в то время кто-то), как если бы не слишком способный дикарь пробовал изобрести математику. Он будто пытался раскрыть код мира. Его картины походили на тщательно выписанные диаграммы, но диаграммы чего? Если б он только мог покрыть все достаточно тонкой сетью… Если б только у него это получилось. Иногда ему грезилось, что это ему удалось. Никому эти «фанатичные» картины не нравились, и в конце концов они стали для Тима напрасной пыткой. Потом в один прекрасный день (он не смог объяснить, каким образом) сеть начала сворачиваться и вздуваться, и сквозь нее очень постепенно проступили иные формы. Когда он вернулся к органической жизни, то все было, как раскормленное в неволе. Все теперь в его картинах было тучным, обвитым лианами, тропическим. Где никогда не было и признаков жизни, там она теперь всюду бурно проявляла себя. Он изображал очеловеченных рыб, очеловеченные фрукты, глубокие моря, кишащие проницательными эмбрионами, и пляшущий ювенальный бульон. Никому эти картины особо не нравились, говорили, что они вторичны, какими они, по правде, и были. Разумеется, это тоже был только очередной этап.
Кто-то (а точнее, Нэнси, сестра Джимми Роуленда) сказал Тиму: «Вы, художники, должны чувствовать, будто творите мир». У Тима никогда не было такого чувства. В самые лучшие мгновения работы к нему приходило ощущение безграничной легкости. Конечно, он не творил мир, он его открывал, и даже не так: просто видел его и давал ему продолжаться на полотне. Он даже не был уверен, в эти лучшие свои мгновения, что то, что он делает, является «воспроизведением». Он просто был частью мира, его прозрачнойчастью. Дейзи, которая терпеть не могла музыки, как-то сказала, желая принизить это искусство: «Музыка похожа на шахматы, все это уже существовало ранее, и нужно лишь найти его». — «Ты права», — ответил Тим. То же самое он чувствовал в отношении живописи.