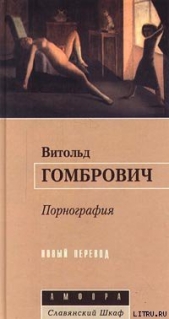Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника
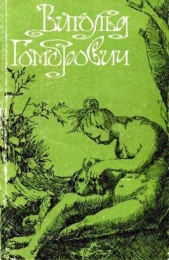
Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника читать книгу онлайн
Представленные в данном сборнике рассказы были написаны и опубликованы Витольдом Гомбровичем до войны, а в новой редакции, взятой за основу для перевода, — в 1957 г.; роман «Порнография» — написан в 1958, а опубликован в 1960 году. Из обширного дневникового наследия писателя выбраны те страницы, которые помогут читателю лучше понять помещенные здесь произведения. Давно вошедшие в наш обиход иноязычные слова и выражения оставлены без перевода, т. е. именно так, как это сделал Автор в отношении своего читателя.
При переводе сохранены некоторые особенности изобретенной Гомбровичем «интонационной» пунктуации, во многом отличной от общепринятой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она догадывалась, что он — неверующий; это чувствовалось по определенной ее настороженности, по той дистанции, которую она выдерживала. Она знала, что между ними существует пропасть, но, тем не менее, именно от него она ожидала признания и одобрения. Те, другие, с кем до сих пор ей приходилось встречаться, хоть и верующие, не достигали достаточной глубины — он же, неверующий, был бездонно глубок и поэтому не мог не признать ее глубины, он был «крайний», а потому и ее крайность он обязан был понимать — ведь он «знал», он «понимал» и «чувствовал». Амелия была заинтересована в том, чтобы опробовать свою крайность на его крайности, допускаю, что она выглядела как художник-провинциал, пытающийся в первый раз представить свое произведение знатоку — но произведением этим была сама она, это была ее жизнь, одобрение которой она так старалась получить. Но, как уже говорилось, она не была в состоянии высказать этого, видимо, просто не могла бы решиться, даже если бы на пути не стоял его атеизм. Тем не менее присутствие этой чуждой глубины всколыхнуло все ее глубины, и она старалась по крайней мере напряжением и готовностью своей сообщить ему, как он для нее важен и что она от него ожидает.
Что же касается Фридерика, то он вел себя так, как и всегда: безупречно и в высшей степени тактично. Но низость, та самая, что и тогда, на грядках, когда он признавался в неудаче, под ее влиянием начала медленно в нем проявляться. Это была низость бессилия. Все это очень напоминало соитие, духовное, разумеется. Амелия требовала, чтобы он принял если не ее Бога, то ее веру, но этот человек не был способен на такой шаг; обреченный на вечный террор существующего, в холоде своем, ничем не обогретый, он был таким, каким был, он посматривал только на Амелию, подтверждая, что она такая, какая есть, что — и именно в лучах ее тепла — становилось трупно-бессильным. Его неверие росло под влиянием ее веры, и они уже завязли в этом роковом противоречии. А телесность его также росла под влиянием ее одухотворенности, и рука его, например, становилась очень, очень, очень рукой (уж и не знаю, почему, напоминавшей мне того червя). А еще я перехватил его взгляд, которым он раздевал Амелию, точь-в-точь как Дон Жуан маленькую девочку, взгляд, явно вопрошавший, как же она может выглядеть голая — разумеется, не вследствие каких-то эротических поползновений, а просто так, чтобы лучше знать, с кем говоришь. Под этим взглядом она съежилась и осеклась — поняла, что для него она является лишь тем, чем является для него, и ничем больше.
Терраса, послеобеденное время. Она поднялась из кресла, и обратилась к нему:
— Подайте мне руку. Пройдемся немного.
Она оперлась на его руку. Может быть именно так, через физическое соприкосновение, она хотела ознакомить его с собой и преодолеть эту его телесность! Они шли вдвоем, рядом, как влюбленная пара, мы же — вшестером — несколько сзади, как кортеж, в самом деле, было похоже на любовный роман, разве не точно так же мы недавно сопровождали Геню и Вацлава?
Да, роман, но трагический. Думаю, что Амелии было не по себе, когда она перехватила этот его раздевающий взгляд — потому что ее так еще никто не трактовал, с самых ранних лет ее уделом были уважение и любовь окружающих. Так что же такое он знал, и в чем заключалось его знание, чтобы быть вправе так ее трактовать? Она была абсолютно уверена, что невозможно сомневаться в честности ее душевного порыва, поэтому она, по сути дела, боялась не за себя, а за весь мир — поскольку здесь ее видению мира противостояло иное видение, не менее серьезное, также продиктованное каким-то переходом на крайние позиции…
Эти две значительности шагали рядом, под руку, по широкому лугу, солнце клонилось к закату, росло, краснело, а из нас вдаль выстреливали тени. Геня шла с Вацлавом. Иполит с Марией. Я сбоку. И Кароль. Пара перед нами ушла в свою беседу. Но беседа ничего не содержала. Они говорили о… Венеции.
Она остановилась.
— Посмотрите вокруг. Как прекрасно!
Он ответил:
— Да, несомненно. Весьма. Прекрасно.
Сказано было, чтобы ей поддакнуть.
Она вздрогнула от неожиданно вспыхнувшего раздражения. Ведь ответ — пусть даже обстоятельно и с чувством высказанный — но с чувством актера — был не по существу, поскольку являл собой подмену настоящего ответа. Она же добивалась неподдельного восхищения вечером, который был творением Бога, и хотела, чтобы он возлюбил Творца по крайней мере в его творении. Ее чистота замкнулась в этом желании.
— Но, право же, вы только взгляните, скажите. Разве это не прекрасно?
Призванный к порядку, он сосредоточился, явно напрягся и сказал действительно со всей откровенностью, на которую был способен, даже несколько взволнованно:
— Ну конечно, несомненно, прекрасно, да, замечательно!
У нее не могло быть претензий. Видно было, что он прилагает усилия, чтобы она осталась довольна. Однако это была его роковая особенность: когда он что-то говорил, то казалось, что он говорит лишь затем, чтобы не говорить чего-то другого… Чего? Амелия решила раскрыть карты и не сходя с места заявила:
— Вы — атеист.
Прежде чем высказаться по столь деликатному предмету, он бросил взгляд налево, направо, как бы проверяя общество. Он сказал… потому что должен был сказать, потому что ничего другого не мог сказать, ответ был продиктован вопросом:
— Да, я атеист.
Но он снова говорил лишь затем, чтобы не сказать чего-нибудь другого! Это чувствовалось! Она замолчала, как будто ее лишили возможности полемизировать. Если бы он и в самом деле был неверующим, она могла бы с ним бороться и тогда она показала бы всю самую глубокую «предельность» собственной правоты. О! Тогда бы она боролась с ним на равных. Но ему слова служили для сокрытия… чего-то другого. Но чего? Чего? Если он не был ни верующим, ни неверующим, то чем же он был? Открывалось пространство неопределенного, этого странного «другого», в котором она, ошеломленная и выброшенная из игры, терялась.
Она свернула к дому, а все мы — за ней, отбрасывая километровые тени, которые, стелясь по лугу, достигали неведомых нам далеких мест где-то у края стерни. Чудный вечер. Она была — я мог бы поклясться — испугана. Она шла, уже не думая о Фридерике, который, впрочем, неотлучно, как собачка, сопровождал ее. Шла, выброшенная из игры… похожая на человека, у которого выбили оружие из рук. На ее веру не нападали — ей не надо было защищать ее. Бог становился излишним перед лицом атеизма, служившего ширмой — и она почувствовала себя одинокой, покинутой Богом, могущей лишь в себе найти опору, поставленной перед лицом того существования, которое было основано на каком-то другом принципе, и которое постоянно ускользало от нее. И именно эта неуловимость компрометировала ее, ибо показывала, что на ровной дороге католический дух может встретиться с чем-то таким, чего он не знает, чего не предвидел, чем не овладел. Кто-то посмел трактовать ее неизвестным ей образом — и она представила себя чем-то непостижимым для Фридерика!
В тот вечер наша прогулка змеей растянулась по лугу. Чуть за нами, наискосок, по левую руку, шли Геня с Вацлавом, оба весьма благовоспитанные, цивилизованные, украшенные своими семьями, он — сын своей матери, она — дочь своих родителей; и телу адвоката не было плохо с шестнадцатилетней, имея при себе в итоге двух матерей и отца. А Кароль шел сам по себе, рядом, руки — в брюки, скучал, а может и не скучал, а так просто переставлял ноги по траве, левую, потом правую, потом левую, потом правую, потом левую, потом правую, потом левую, в пространственно-зелено-луговом ничегонеделании под садящееся, закатывающееся солнце, оно пригревало, а прохладный ветерок обдувал — и так он переставлял ноги туда-сюда, туда-сюда, временами замедляя шаг, временами ускоряя, пока в результате не поравнялся с Фридериком (шедшим с пани Амелией). И какое-то время они шли рядом. Кароль завел разговор:
— Дали бы вы мне старый пиджак, а?
— Зачем он тебе?
— Надо. Торговать.