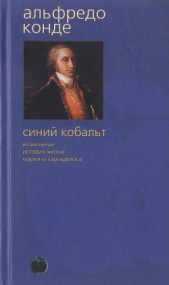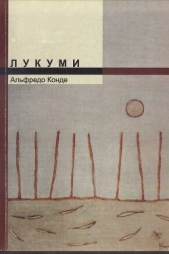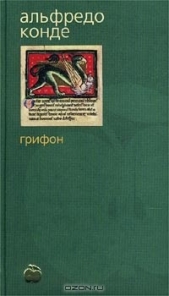Ноа и ее память

Ноа и ее память читать книгу онлайн
Альфредо Конде известен в России романами-загадками «Грифон» и «Ромасанта. Человек-волк». Вниманию читателя предлагается новое произведение, написанное в 1982 году и принесшее автору мировую известность, — «Ноа и ее память». Необычность стиля и построения сюжета снискали ему массу поклонников, а глубина анализа чувств главной героини ставит роман на один уровень с мировой классикой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда все закончилось, он почувствовал себя, как ребенок, которого уличили в дурном поступке, он словно испытал ужасное чувство вины, и он обнял меня, как бы защищая самого себя. Потом он вновь заговорил, вернулся к покаянным речам и перестал быть напуганным ребенком. Он вновь плел паутину идей, прекрасных образов, удачных рассуждений, сложных умозаключений и снова стал таким, как всегда. А я, слушая его, вновь шалела, погружаясь в словесную мишуру, к которой уже успела привыкнуть. В самый разгар своего диалектического пыла — когда я пришла в хорошее настроение (ох, уж эта моя истовая страсть к слову!) — он снова захотел проникнуть в меня, овладеть мною с тем же наслаждением, с каким произносил свою речь, войти в меня посредством нежности, что источали его слова. Мы лежали обнаженные в постели, и я почувствовала вялость его члена, недостаток его энергии и предупредила. «Ты утомлен, измотан, напряжение было очень сильным», — сказала я, но он не прислушался к моим словам. Он был опьянен своей последней, в высшей степени плодотворной акцией, он чувствовал себя сильным, был увлечен своим собственным многословием и заразил меня своим энтузиазмом. Мое тело требовало того, что предлагал его ум, и я приняла его. Но это была полная неудача. И тогда Кьетаном овладело прежнее напряжение, прежняя усталость, и он постепенно стал впадать в безразличие, в досаду, в циклоидное повторение предшествующей стадии удрученности, всхлипываний и слез. Он вновь стал погружаться в состояние маленького ребенка, как в начале, и вновь прошел весь свой трудный путь. Я снова целовала и гладила его; потом вновь стала говорить с ним, вложив в свои слова всю нежность, на какую только была способна, я ощущала рядом с собой его обнаженное тело и снова захотела ласкать его; я говорила с ним о его члене и о нем самом как о двух отдельных существах, и я продолжала говорить с ним словами, полными нежности, и старалась ласкать его в наименее греховных местах.
Я многое узнала в ту ночь о человеческой натуре; мое тело вопило о мужчине, и я нашла сотканное из слов и ласки тело мужчины, которое могло бы покрыть и удовлетворить мое. Я почувствовала, как во мне возникают идущие из глубины веков знания, хранящаяся в земной коре интуиция, вызывающие трепет ночные ощущения; я поколдовала над этим телом и, заставив его работать как тело мужчины, сама стала женщиной, которой не была до того времени и которой с тех пор остаюсь. После рыданий к нему вернулась его агрессивность, он снова стал искать материнской защиты и, освободившись от тоски, снова начал говорить. Меня это напугало, и поскольку мое тело потребовало от меня все поставить на свои места, я отказалась вновь заключить его в материнское заточение, где он был и мужчиной, и ребенком, совершавшим кровосмесительный акт; я не могла допустить, чтобы вновь начался тот цикл, который он уже прошел этой ночью, и попыталась повести его другим путем. Но все было бесполезно. Он вернулся в клетку своих слов, он вновь ступил на путь, ведущий к тоске, и я больше не предлагала ему для бегства свое тело. Я утешала его словами и позволила ему снова, уже в третий раз, рассказать мне свою историю, чтобы он полностью излил душу, и когда наступил момент молчания, момент вопросов без ответов, я дала ему ключ к искомому оправданию («Что я скажу им, когда они спросят, почему меня так быстро выпустили?»), к вопросу, который вызывал у него рыдания и ощущение незащищенности:
— Ты им скажешь: потому, что я поговорила с кардиналом.
— Это что, правда?
— Да.
— Но почему?
— А почему бы и нет?
Он сумеет правильно применить данный ему ключ; он истолкует, он интерпретирует это таким образом: за ним следили уже довольно долго, и, когда его наконец схватили, своевременное вмешательство кардинала, вызванное моей просьбой, о которой меня никто не просил, привело к тому, что его выпустили на свободу, толком даже не допросив. Таким образом, я превратилась в своего рода шпионку, человека, которому не слишком можно доверять, учитывая мои связи в высших кругах, в человека, на которого все теперь будут смотреть с некоторой опаской, если не с недоверием. Как это мне удалось поговорить с кардиналом? Как это кардинал принял мою просьбу во внимание и вмешался в такое дело? Но я уже дала ключ к расшифровке Кьетансиньо — этому негоднику! — я вручила ему ключ и уверенность, что он может вести себя как мужчина. А это было немало.
Едва он ушел, я почувствовала непреодолимое желание рассказать об этой ночи Педро, и когда уже решила отправиться к нему, вдруг вспомнила о другой ночи, проведенной в этом самом доме с ним. Я беззвучно и почти без слез расплакалась, поняв, что невозможно, чтобы мой рассказ об этой невероятной нелепице не ранил его. Я знаю, что мужчинам иногда приятно слушать о неудачах других, даже если о них рассказывает та же женщина, с которой они делили ложе, особенно если комментарии и сравнения делаются в пользу слушателя, но в случае с Педро существовала еще соединившая нас невидимая связь, сотканная из взаимного уважения и нежной привязанности. С другой стороны, реакцию Педро легко можно было себе представить; так что я решила поплакать в одиночестве, если только мне удастся выжать из себя слезы: мне казалось, не знаю уж почему, что моему отцу тоже не следует об этом рассказывать, а мой кузен был как раз у него. Я решила сидеть дома и, может быть, дожидаться: приедет кузен, и я все расскажу ему. В любом случае мое тело на какое-то время успокоилось, не слишком надолго, разумеется, но все же на какое-то время.
После той ночи Кьетан некоторое время не появлялся на моем горизонте, и у меня было время вспомнить тот путь, что привел нас к встрече. События развиваются совсем не так, как предполагаешь, и очень редко в соответствии с твоими мечтами, а я никогда не мечтала о такой с ним ночи, ни о чем подобном, хотя и думала, что рано или поздно в конце концов пересплю с Кьетаном. В моей жизни было немного мужчин и еще меньше — в моей постели, ровно столько, сколько необходимо, чтобы не страдало тело и успокоились нервы. Как правило, это были друзья, с которыми я жила вместе (если только спать в одной постели означает жить вместе) самое большее несколько недель, после чего они исчезали; поэтому мгновенное исчезновение Кьетана тревожило меня и заставляло вновь и вновь восстанавливать в памяти ту неожиданную ночь, прокручивая одну за другой все имевшие место ситуации, все сказанные фразы на тот случай, если в каком-нибудь слове или действии я смогла бы вдруг отыскать причину дезертирства того, кому суждено было стать моим мужем. Но нет, не имелось никаких причин, просто Кьетан был таким, каким был; а был он таким, потому что работал не в К., потому что постоянно общался со своей матерью, оставшись практически без отца уже со времени нашей первой встречи и потому, что мать обожала его. Я задавала себе вопросы: рассказал ли он, например, своей матери о своем аресте (конечно, рассказал), об его обстоятельствах (не думаю), об освобождении и о проведенной со мной ночи. Рассказал ли он ей обо мне? И что он в таком случае обо мне сказал? Меня никогда раньше не заботило мнение матерей моих приятелей, почему же теперь меня это так волнует?! Я совершенно правильно догадывалась, что причиной была та роль, которую всегда играла в жизни Кьетана его мать, ведь ее образ постоянно присутствовал в его мыслях, и я попыталась вызвать этот образ в своей памяти; но низенькая полная женщина, которую я видела шагающей по Феррадуре, не приобретала в моем сознании четкого конкретного облика. А вот печальное и смиренное выражение на лице его отца, напротив, живо возникало в моей памяти; это было само воплощение покорности, явившейся результатом корректности поведения, воспитания, которое до такой степени меняет характер, что он перестает проявляться, а когда наконец проявляется, то уже поздно, ибо в таком возрасте у нас уже нет сил. У отца Кьетана был вид благородного человека, смиренно признающего свою ошибку, несправедливую ошибку, порождающую сомнения, но не допускающего, что можно выпрямить, исправить плохо начатую борозду. В другом типе сознания, в другой религии, в другой культуре (а ведь подчас как близки, как едины, какую зловещую упряжку составляют эти два последних понятия) именно воспитание заставило бы отца Кьетана порвать с этой неисправимой женщиной; здесь же, особенно с тех пор, как нас захлестнула та порнографическая волна, что называется театром Кальдерона, подобное освобождение невообразимо. Можно обратиться к местному заправиле или к кому бы там ни было, чтобы он сделал тебе ребенка, которого не смог тебе сделать муж, можно забеременеть и выйти замуж, трижды войдя в океанский прилив, но ты не имеешь права переделать свою жизнь, даже если заслуживаешь всеобщего сострадания. Таким был отец Кьетансиньо, которого я представляю себе святым, считаю святым и чье лицо навсегда останется в моем воображении, хоть видела я его всего один раз. А вот — мать я не могла вспомнить, мать представляла собой маленькую бесформенную массу в виде некой абстракции, подобной образам Константина Брынкуши {27}, которые всегда ассоциируются с чем-то студенистым или со мхом, но никогда со слоновой костью, мрамором, кварцем или бронзой.