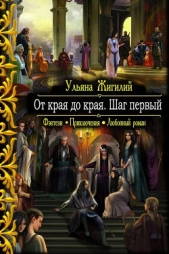Под солнцем Сатаны

Под солнцем Сатаны читать книгу онлайн
Жорж Бернанос (1888-1948) – один из крупнейших французских писателей, с которым русский читатель знаком по нескольким новеллам. В настоящий сборник включены три наиболее зрелых и сильных произведения Бернаноса: "Под солнцем Сатаны", "Дневник сельского священника" и "Новая история Мушетты". Писатель ставит проблемы, имеющие существенное значение для понимания духовной жизни человека. Бернанос отдает свои симпатии людям обездоленным. Страдающие, подчас отчаявшиеся, они находят в себе силы для любви, добра.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Может быть, вам нужно что-нибудь сказать ему? Хотите, я его кликну? Должно, он не успел еще далеко уйти.
– Нет, друг мой, – остановил его викарий, – не ворочайте его. К тому же я чувствую себя лучше… Давайте-ка я сам пройдусь немного.
Пошатываясь, он тронулся с места, и чем далее, тем тверже становились его шаги. Вернулся он уже успокоенный.
– Так вы знаете его? – спросил он возчика.
– Это кого же? – удивился тот, но тотчас весело воскликнул: – А, парня из Мореля? Еще бы я его не знал: в прошлом месяце на ярмарке в Фрюж он продал мне двух жеребят. Так-то!.. А не пройтись ли нам вместе, господин аббат, ежели вы не прочь? От ходьбы вам сразу полегчает. Я как раз иду в каменоломню Вай – работаю я там – по пути увидите. Если вам станет хуже, то у Скворца, что держит корчму "Сорока-воровка", можно достать повозку.
– Идем же, – ответствовал будущий святой. – Силы вернулись ко мне, я чувствую себя прекрасно, дружище!
Некоторое время они шли в молчании. И тут Дониссан постиг истинный смысл недавно сказанных ему слов: "Сейчас увидишь, лгал я или нет".
Сначала медленно, потом все прибавляя ходу, они шли по довольно бойкой дороге, которая в осеннюю пору бывала настолько изрыта колдобинами, что по ней отваживались ездить лишь в крепкие заморозки. Вскоре им стало невозможно идти рядом. Извозчик шагал впереди, а викарий следом, глядя себе под ноги, чтобы выбрать место получше, стараясь тверже ставить ноги, обутые в тяжелые башмаки, и помышляя лишь о том, чтобы не отстать от провожатого. Хотя его знобило еще от усталости и лихорадки, он в своей пагубной простоте почти забыл о мрачных дивах странной ночи, но не по легкомыслию или от умственного отупения, вызванного крайним упадком сил, – он умышленно не думал о них, что не требовало, впрочем, от него особых усилий. Он простодушно откладывал раздумья до более благоприятного случая, например, до ближайшей исповеди. Сколь многие на его месте пребывали бы в величайшем смятении, не зная, было ли случившееся плодом их помутившегося рассудка, либо они подверглись тягчайшим испытаниям, став жертвой могучих сверхъестественных сил! Он же, едва оправившись от испуга, покорно ждал новых происков нечисти и сошествия на него столь необходимой ему благодати. Не все ли едино, одержим он бесами или безумием, стал ли он игралищем собственного воображения или нечистой силы, коль скоро благодать сия есть нечто само собою разумеющееся и непременно сойдет на него! Он ждал прихода Утешителя с простодушною уверенностью дитяти, которое, едва настанет час трапезы, возводит взор на отца своего, ибо несмышленое чадо Николи не усомнится в том, что даже в крайней нужде будет напитано хлебом насущным.
Они покрыли уже более трех четвертей расстояния, отделявшего их от каменоломни в Айи. Дорога была неведома Дониссану, отчего он всячески остерегался уклоняться вправо или влево. Порою он скользил, и жидкая грязь брызгала ему в лицо, залепляла очи. Непрерывное умственное напряжение в сочетании с каким-то внутренним сопротивлением, бессознательным стремлением оберечь и без того переутомленный мозг мешали ему сосредоточиться на новом невыразимом ощущении, в котором ему трудно было бы разобраться, даже если бы он желал того. Но мало-помалу это ощущение стало настолько сильно, вернее столь неотвязно, столь настоятельно (оно наполняло его удивительной сладостью), что он пришел наконец в смущение. В нем самом или вне его находился источник? В груди разливалось какое-то неземное тепло, несказанное блаженство. Но было еще что-то, острое чувство чего-то находящегося совсем рядом, настолько властное, что он подумал, что занимается рассвет или на небо вышел месяц. Но отчего же не смел он поднять очей?
Он шел, все так же глядя себе под ноги, почти смежив веки и не видя вокруг ни малейшего признака света, ни малейшего проблеска, кроме едва приметного мерцания грязных луж. Тем не менее он готов был поклясться, что его окружало кроткое ласкающее сияние, словно облако золотой пыли. Сам себе в том не признаваясь, да, может быть, и не веря в то, он боялся, что, стоит ему поднять глаза, наваждение рассеется и вместе с ним радость. Радость сия не пугала его. Он чувствовал, что нельзя бежать ее, не изведавши сначала, как поступал уже не раз. Он не ощущал насилия – его приглашали, его звали. В сущности, он не противился и не пенял себе за то, уверенный, что рано или поздно покорится могучей благотворной силе "Сделаю еще десять шагов, не глядя вперед, – твердил он себе, – потом еще десять… Еще десять…" Возчик камней весело стучал каблуками по иссохшей затверделой дороге, и Дониссан с чувством умиленной растроганности слушал звук его шагов. Мало-помалу в нем зрело убеждение, что человек сей есть друг его, что их соединяют и, очевидно, искони соединяли тесные узы неземного братства, узы божественного прозрения. Слезы навернулись ему на глаза. Так ясным утром встретились в райском вертограде два избранника, рожденные друг для друга.
Тем временем они достигли перекрестка двух дорог. Одна из них отлого сбегала к селению, другая же, разбитая тяжело груженными дрогами, спускалась к каменоломне. Издали доносились пение кур и человечья молвь – по всей видимости, говор камнетесов, торопившихся добраться к месту работы еще до света. И тут Дониссан решился.
Ужли спутник его стоял перед ним? Он не сразу поверил глазам своим. Возможно ль, чтобы человек, представший взору его, с ослепительной ясностью напечатлевшийся в очах его, был смертным из плоти и крови? Вряд ли мог разглядеть он в ночном мраке недвижный стан, но чудилось Дониссану, что светит ему тот кроткий, ровный, живой свет, озаривший мысли его, свет истинно нездешний. Впервые будущий святой стал очевидцем свершавшегося в безмолвии чуда, ставшего впоследствии столь привычным ему. Вероятно, ему стоило некоторого усилия уверовать в то, что чувства не обманывают его. Так, прозрев внезапно, слепорожденный простирает к неведомому свету дрожащие персты и дивится, что не может осязать ни плотности его, ни очертаний. Да и мог ли молодой священник принять без внутренней борьбы новый способ познания, недоступный другим? Он видел спутника своего, не мог усумниться в том, что видит, хотя не различал черт его и тщетно пытался разглядеть лицо и руки… Однако, не ведая страха, с верою нерушимою, пристально и спокойно созерцал он дивное сияние не ради того, чтобы проникнуть в него взором, но в убеждении, что сам им проникнут. Ему казалось, что прошло много времени, но в действительности все длилось какой-то миг. И вдруг он понял.
"Как видел самого себя", – сказал страшный свидетель. Так оно и было. Он видел, видел своими смертными очами то, что пребывает сокрыто от самой мудрой прозорливости, самой изощренной догадливости, самой просвещенной образованности: человеческую сущность. Конечно, отчасти мы сознаем свою природу и, несомненно, несколько лучше разбираемся в собственной душе, чем в душе ближнего, но всякому должно погрузиться в себя, и чем более мы погружаемся, тем более сгущается мрак, пока наконец достигнем самых глубин своего "я", где мятутся тени предков и ревет, как подземная река, звериное естество. И вот… вот бедный священник очутился неожиданно в самой сокровенной глубине другого человека, проникнув в нее так далеко, как проникает взор высшего Судии!
Дониссан сознавал, что свершалось чудо, и был восхищен тем, что свершалось оно так просто и тихо. Теперь, когда произошло проникновение в чужую душу, что любому трудно представить без громов и молний, оно не страшило его более. Вероятно, он лишь подивился тому, что таинство столь поздно открылось ему. Хотя он и не умел выразить этого чувства словами (впрочем, ему ни разу не удалось этого сделать), у него было ощущение, что знание сие соответствует его природе, что ум и способности, которыми гордятся люди, не имели бы здесь особого значения, что было оно попросту могучим приливом, бурной, всепоглощающей волной милосердия. Искренне полагая себя недостойным столь редкой, исключительной милости, он готов был в смирении своем винить себя за то, что мало любил ближних, коль скоро не знал душу их. А все, в сущности, так просто, и цель так близка, как только избран путь! Научившись пользоваться возвращенным ему чувством, прозревший слепец не удивляется более тому, что достигает взором далекой небоземи, куда прежде добирался он с великим трудом, оступаясь и продираясь сквозь терновник.