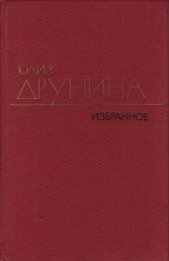Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е

Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е читать книгу онлайн
Вторая книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)», посвященных 1960–1980-м годам XX века. Освобождение от «ценностей» советского общества формировало особую авторскую позицию: обращение к ценностям, репрессированным официальной культурой и в нравственной, и в эстетической сферах. В уникальных для литературы 1970-х гг. текстах отражен художественный опыт выживания в пустоте.
Автор концепции издания — Б. И. Иванов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Подняв с пола эти два зуба и отерев их о штаны, мой папа положил их себе в карман со словами: «На долгую память от сына» — и, достав из того же кармана пять рублей, протянул их мне и сказал, чтобы я немедленно поспешил в магазин:
— Чтой-то у меня того, живот болит, надо бы подлечиться.
Надо сказать, что таким мой папа был в памятное время моего отрочества, но жизнь постепенно наложила на него мрачный отпечаток, который впоследствии выразился одной-единственной страстью, а именно пьянством.
А в те времена были поистине добрые минуты, особенно после того как мой папа, съев в целую сковороду котлету, которую специально для него жарила моя матушка, потерев живот и с гордостью ощупав его немалую величину, говорил:
— Чтой-то меня сегодня сморило, пойду полежу.
С этими словами, которые он произносил почти каждый день, он отправлялся на диван, где, развалив свои босые ноги в галифе, засовывал свою большую руку в ноздрю.
Сладкое сопение раздавалось в комнате, что говорило о старательном усердии и об утонченном наслаждении, понятном только моему родителю.
Одна рука его повисала над полом, а другая, вольно откинувшись, возлегала на диване; в той, что была над полом, мой папа что-то катал двумя пальцами, а потом, поднеся к носу и осмотрев, стряхивал на пол, позевывая при этом время от времени и не переставая мыслить вслух.
— Я так думаю, Мария, — говорил он, — когда я стану полковником, я могу стать и генералом.
Мысль о том, что он когда-нибудь сможет стать генералом, не давала ему покоя, но он так и не стал им, а в чине полковника был уволен в запас.
Иногда туда же на диван прикладывалась и моя матушка, которая тоже засовывала свою маленькую полную руку в более изящную, чем у моего родителя, ноздрю, при этом один ее глаз был несколько прищурен.
О чем моя матушка в этот момент думала, так для меня и осталось тайной; она лежала на спине, положив свою полную круглую руку под голову, а другая задумчиво тонула в носу; голова моего родителя покоилась рядом, чуть выше ее головы, и, когда я, стоя с хлопушкой, смотрел на них, молча сопевших в тишине отдельной квартиры, мне тоже хотелось лечь рядом и, развалив ноги и засунув в нос руку, сосредоточиться на какой-то одной мысли, не забывая при этом сладко сопеть.
Окрик моего железного отца, моего стального папы, выгонял меня в другую комнату или совсем на улицу.
— Сходи-ка ты, брат, прогуляйся, — говорил он, — чтой-то ты засиделся. Да и то, и мух нет…
И в самом деле, наступал тот момент, когда мухи вдруг на какое-то время пропадали, обычно это было, когда день начинал клониться к вечеру (как будто они засыпали, и сон смирял их назойливость и нахальство), и я в эти часы слонялся, не зная, чем заняться: то приставал к матушке с просьбой дать мне на кино, то в который раз довольствовался судьбой Пети и Гаврика — единственной книгой, бывшей у нас в заводе помимо школьных учебников, заляпанных кляксами и с разрисованными усами и рожками портретами вождей и героев, писателей и передовиков.
Впрочем, иногда я уходил на море, на жаркое соленое море, столь любимое представительницами нежнейшего пола, где, взобравшись на торчащий из воды камень, ловил на нитку с крючком бычков или, подставив ослепительному солнцу спину, с наслаждением наблюдал за приготовлением к водным процедурам тех, кто, разбросав свои свежие формы, одиноко млел на берегу, предоставляя пищу моему возбужденному жарой и бездельем воображению.
Так протекала вторая половина моего детства до тех пор, пока я, сев в курьерский поезд, не отправился в далекий, но ясно видимый провинциальной мечтой Ленинград.
Должен сказать об одном периферийном свойстве — хвалить этот город, его красоты, культуру его жителей, так что приезжий скорее обругает столь милый его провинциальному сердцу город, обидно обозвав его дырой, которая бывает еще и в кармане, что скорее говорит о плохом состоянии кармана, чем о самой дыре, но уж про этот город ничего дурного не скажет, а если и найдется вдруг кто-нибудь из его жителей, который возразит ему, сказав, мол, какая у вас дыра, вот у нас дыра так дыра, как зарядят дожди в декабре, так кончаются только на следующий год, на что приезжий просто-напросто обидится, обозвав аборигена по-русски и просто: дурак.
— Дурак ты, — скажет, — дураком и умрешь.
Тем самым разбив всю жизнь обидчика на три временные составляющие: прошлое, настоящее и будущее, не оставляя никакого просвета, никакой надежды поумнеть, тем самым нечаянно доказывая, что в наше время дураки не перевелись, не переведутся и в будущем, а значит, ни о какой прекрасной и счастливой жизни мечтать не приходится, ибо какая же такая счастливая жизнь с дураками…
Говоря о второй половине моего детства, я не могу не упомянуть о том, где оно проходило, а именно в том живописном уголке между холмами, которые сами собой стекали в голубую долину, называемую еще Каспийским морем, тем морем, на гладкой поверхности которого можно было иногда заметить одинокий парус.
Белые домики со стеклянными верандами, сверкавшими на солнце; фиолетовые, розовые сады, в которых черешня и миндаль соседствовали с персиком и абрикосом, — все это расцветало и цвело весной, и тогда словно в нежной дымке тонул поселок: наступала пора любви цветов и деревьев.
Должен сказать, что я любил проводить свое время на холмах, где, усевшись на какой-нибудь камень и подперев рукой подбородок, смотрел на поселок, предаваясь отроческим мечтам, тем мечтам, где любовь занимала первое место, имея свойство при этом делиться на плотскую и возвышенную, ту возвышенную любовь, что я встречал в многочисленных повестях и романах, которые я в огромном количестве покупал в магазине и тайком от моего отца и матушки прочитывал и перечитывал не один десяток раз.
И вот там, сидя на холме, я часто уносился взором к той, чье лицо настолько исполнено красоты и прелести, что, казалось, способно одним дыханием, одним взглядом отнять мою жизнь, и не только мою, но и жизнь цветов, кустов и деревьев.
Тут я должен упомянуть об одном моем свойстве, а именно чем больше я любил подобной любовью, тем больше проявлялась моя чувственность и тем больше возбуждалась моя плоть, что не раз приводило меня в смущение, а если это случалось на уроках, то, призванный учителем к ответу, я не мог встать из-за парты.
Надо сказать, что целенаправленность моей чувственности была такова, что никоим образом не относилась к предмету моей возвышенной любви, а имела направление к особам более зрелого возраста, чьи замечательные ноги, открытые солнечным пляжам, испускали лучи истомы, неги и сладострастия, так что, глядя на них, мне всегда хотелось прикоснуться к ним.
Вот эти любовные начала и выразились во мне в описываемое мною время в общении с двумя особами, взгляд на которых вызывал во мне противоположные чувства; впрочем, не без того, чтобы одно вытекало из другого.
Виолетта! Это имя я произношу не без тайного стыда и светлой радости, имя, которое я произносил сотни, а может быть, тысячи раз, имя, которое ей дали ее родители, по всей вероятности неравнодушные к итальянской опере, и в частности к известной опере Джузеппе Верди.
Мне и сейчас кажется, что я краснею при упоминании этого имени, мне и сейчас кажется, что я оглядываюсь по сторонам — заметил ли кто? — как и тогда, когда восторженные мурашки пробегали по моей спине и, насладив какой-то там четвертый позвонок, заканчивали свой веселый бег в мизинце, ноготь которого напоминал мне клюв какой-то хищной птицы — ястреба, кондора или беркута.
Я и сейчас помню тот радостный миг нашей встречи, когда я, прислонившись спиной к стене школьного коридора, покрытой зеленой краской, ел пирог с картошкой, один из тех, что каждый день выпекала мне моя матушка, дабы я брал их с собой в школу и поглощал в перерывах между уроками, что я и делал с присущей мне жизнерадостностью и весельем; так вот, стоя у стены и держа в руке пирог, я увидел, как навстречу мне по коридору движется та, чей взгляд был исполнен задумчивой чистоты и рассеянной грусти, как будто он только что побывал в распахнутом окне, выходящем в пришкольный сад, и, порядочно хватив красоты цветущего сада, неожиданно взглянул на меня.