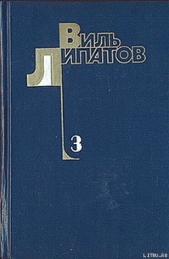Лев на лужайке

Лев на лужайке читать книгу онлайн
Роман о головокружительной газетной карьере «обаятельного конформиста». Последний роман Автора, изданный спустя 10 лет после его смерти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Борис, тебе будет неудобно на кушэтке. Надо купить тахту.
Отец злобно окрысился:
— Не умру на куш-э-э-тке! Я покупаю автомобиль!
Когда он много лет спустя купит «Жигули» оранжевого цвета, спать продолжит из экономии на бывшей узкой Дашкиной кушетке… Спать в одной комнате с отцом было мучением: ночью он тоненько, по-щенячьи повизгивал, мучаясь кошмарами. Язва желудка и геморрой донимали моего отца, позднее прибавился радикулит, полновесный радикулит, как говорил он…. Я отца преданно люблю до сих пор, он мучается все теми же болезнями, но потихонечку переживает первенца, сына Никиту Ваганова, и я уверен: он меня переживет…. Когда оранжевый «Жигуленок» появится возле отцовского дома, разыграются события, которые я без натяжки назвал бы трагическими: он не сможет водить машину, кажется, я уже говорил об этом. Пятнадцать лет ждать, скаредничать, плохо питаться — все ради жестяной коробки. Мне понятно, почему после продажи автомобиля отец бросился в мотовство: покупал заграничные яркие костюмы, на старости лет вырядился в американские джинсы «Ли», приобретенные у фарцовщика, напялил на плечи замшевую куртку, на ноги — мокасины «Саламандер». Эти вещи забавно шли моему отцу, он до старости сохранил худощавость…
Итак, я привык работать — писать и читать — при электрическом освещении, сохраняю эту привычку до смерти — на своей огромной даче в предельно солнечном кабинете задергиваю штору, добиваясь желательного полумрака, чтобы включить горбатую настольную лампу, купленную еще в Сибирске в комиссионном магазине…
… Эту часть главы моих записок вопреки избранному приему — все, что происходило в Сибирске и поблизости, рассказывать от третьего лица, всматриваясь в себя глазами стороннего наблюдателя, — я пишу от своего собственного имени, от имени Никиты Ваганова: мне так удобнее. И да простит меня терпеливый читатель, до сих пор не отложивший страницы моей исповеди в сторонку…
Я сидел в своем рабочем кабинете, сидел при электрическом свете, положив загорелые руки на стол, давно ничего не делая, и думал о своей жене Нике, на которую напал новый стих сопротивления, категорического отрицания Никиты Ваганова как мужа, журналиста и человека. Вам еще неизвестно, что произошло в нашей семейной жизни вчера, но не все сразу, хотя я люблю стремительно разворачивающиеся события, терпеть не могу гнусной эволюции, признаю только скачки, когда количество переходит в качество. Так уж я устроен, устроен борцом и реформатором, много позже внесшим благостные перемены в жизнь такой крупной центральной газеты, как «Заря», перестроил я ее, поставил, как говорят, на попа, а ведь «Пустой мешок не заставишь стоять»… Итак, я размышлял на тему: «Как обуздать родную жену Нику?» Не хотелось ее пугать, не подходил путь выморочного игнорирования, шантажа, подлизывания, заглаживания и так далее. Я с юмором думал, что мне подходит только и только лирический путь «возвращения сердца жены ее законному владельцу». Шутилось потому, что я был уверен: жена никуда не денется, будет жить, по ее словам, с «подлецом и конформистом». Она любила меня, любила и будет любить, как и я ее, единственную — первую и последнюю — жену в своей короткой жизни.
Итак, «подлец и конформист» вчера принял пассивное участие в грозной семейной оцене, разыгранной Никой среди полного штиля. Астанговы и мы с Никой держали домработницу, на что суммарно уходила почти вся зарплата Ники, и обедали дома. Варвара Лукинична три месяца назад попала в Сибирск из пригородной деревни. Она кормила нас прекрасно: картошкой с хрустящим салом и такими густыми щами, что в них стояла ложка. Я, как человек свободной профессии, неторопливо пришел домой пешком, Ника примчалась на «Москвиче» из своей школы, расположенной у черта на куличках; была возбуждена, взвинчена и за кофе, который приготовила сама, поглядывая на меня исподлобья злыми глазами, красными от усталости, тихо, с гневными вибрациями в голосе, спросила:
— Оказывается, ты сам написал статью! Я пока не верю… Будь добр, ответь: ты написал статью?
Я сказал:
— Ага! И не нахожу в этом криминала.
— Но как ты можешь, как ты можешь? — вскричала жена и детским жестом отчаяния прижала руки к груди. — Как ты смеешь участвовать во всей этой грязной истории, если отец ни в чем не виноват? — Услышав мое молчание, Ника зашептала: — Ты хочешь сказать, что папа виноват?! Нет, ты это хочешь сказать?
Я ответил:
— О вине Габриэля Матвеевича я впервые услышал от его младшей дочери…
Вот эту фразу мне говорить не надо было: началось такое, отчего домработница, эта деревенская жительница, укрылась в ванной комнате, которую она обожала. Ника кинулась на меня коршуном:
— Да, об этом ты узнал от меня. Но кто мог подумать, что ты — предатель, гнусный предатель! И я вовсе не говорила, что папа виноват, я говорила, что папу запутали, запутали, запутали! А ты предатель, предатель, предатель!
Я сказал:
— Это мы от вас уже слышали, дорогая. И вы не желаете выслушивать объяснений. Это, наверное, нечеловечно. Дай виновному защититься! — Я улыбнулся. — А о презумпции невиновности, дорогая, вы слышали? А теперь продолжайте кричать; вы — женщина восточного темперамента, вам необходимо выкричаться.
И о восточном темпераменте мне говорить не следовало, так как если до этих слов Ника кричала, то после вопила и размахивала маленькими кулаками. Жена моя ссориться не умела; она выросла в доме, где никогда не ссорились родители, не овладела методикой ссоры и валяла, как придется и что придется, и это у нее получалось некрасиво, предельно некрасиво. Тяжкие усилия предпринимал я, чтобы после ее неумелых и поэтому безобразных криков и стенаний восстановить «лодку» любви и пустить ее по тихому и привычному руслу супружества. Вот Нелли Озерова умела ссориться, проделывала это ритуально, с артистической красотой, и я всегда уступал ей, будь причиной покупка флакона французских духов или возмутительное недельное отсутствие в ее постели. О, как умела ссориться Нелька!
— Ты хочешь, чтобы папа остался без работы? — продолжала бушевать Ника. — Ты этого хочешь? Вот твоя благодарность папе за то, что он порекомендовал тебе познакомиться с Одинцовым, вот твоя благодарность! Не-е-е-т, я и не предполагала, какой ты коварный и опасный человек! Такой ласковый, такой нежный, такой покорный — презираю, презираю, презираю! — Она зажмурилась. — Ты немедленно запретишь публикацию статьи, немедленно!
Я сказал:
— Напротив, буду форсировать публикацию! И если ты замолчишь, объясню, почему.
— Я не замолчу! Я не могу молчать! Ты отзовешь статью… Пусть ее напишет Тимошин!
Ей пока не удавалось вывести меня из себя.
— Нет, Ника, статью не отзову. Это единственный способ помочь Габриэлю Матвеевичу.
— Ха-х-ха! Он хочет помочь папе! Посмотрите на этого гнусного предателя — он хочет помочь папе!
— Да, я хочу помочь Габриэлю Матвеевичу. Доказать, что он выполнял распоряжение высшей инстанции, а это значит намного облегчить его положение. Как ты этого не понимаешь?
— То-ва-рищ Ваганов, я ничего не желаю понимать! Я не верю предателю! Я никогда не поверю предателю!
Интересно, чем занималась в ванной наша деревенская домработница? Ей нравились кафель, фаянс, разноцветные краны. Что думала деревенская женщина о воплях моей жены Ники? Считала их такими же красивыми, как ванная комната, или желчно смеялась над бедным Никитой Вагановым? Я сказал:
— Ты вся — открытый рот, Ника! Так у белых людей не принято кричать. Я тобой недоволен и требую, чтобы ты меня выслушала.
— Я не выслушиваю предателей!
Это был последний истошный ее крик. После него она, как выражаются, «слиняла»: умчалась, опаздывая на очередной урок, и я остался один — оплеванный, опозоренный, неотомщенный, неоправдавшийся… Домработница Лукинична осторожно выбралась из ванной комнаты, с тряпкой в руках пошла вдоль нашей мебели, как бы сметая пыль, которая давным-давно была уничтожена. Это значило, что она хочет со мной поговорить, и я весело сказал: