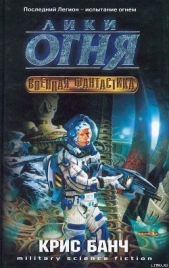Лики времени

Лики времени читать книгу онлайн
В новую книгу Людмилы Уваровой вошли повести «Звездный час», «Притча о правде», «Сегодня, завтра и вчера», «Мисс Уланский переулок», «Поздняя встреча». Произведения Л. Уваровой населены людьми нелегкой судьбы, прошедшими сложный жизненный путь. Они показаны такими, каковы в жизни, со своими слабостями и достоинствами, каждый со своим характером.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Особенно мама любила романс «Сегодня, завтра и вчера».
Прощай, мой друг, прощай навек,
Проститься нам пришла пора,
Пусть побегут за днями дни —
Сегодня, завтра и вчера.
Когда Клава была маленькой и мама пела при ней, Клаве представлялись эти «сегодня, завтра и вчера» юркими, пронырливыми созданиями, похожими на кузнечиков, прыгающих друг за дружкой в траве…
А еще мама пела романс, от которого Клаве хотелось плакать:
В жизни все неверно и капризно,
Дни летят, ничто их не вернет,
Нынче праздник, завтра будет тризна,
Незаметно старость подойдет.
И припев:
Эй, друг, гитара,
Что звенишь несмело,
Еще не время плакать надо мной!
Пусть жизнь прошла,
Все пролетело,
Осталась песня, песня в час ночной…
Грустные слова, от которых наворачивались слезы, мама выводила своим тонким голосом, глаза ее весело щурились, маленький рот улыбался. Трудно было бы представить себе ее печальной или хотя бы просто задумчивой. Пожалуй, единственный раз мамино лицо казалось застывшим в невеселой задумчивости, тогда, когда она лежала в гробу; умерла мама внезапно, еще утром, провожая мужа, Клавиного отца, на работу, она попросила его не задерживаться, потому что задумала лепить пельмени, а они, как известно, не любят долго париться в воде.
«Ладно, — пообещал Клавин отец. — Приду вовремя, не беспокойся».
«Жду», — сказала мама, стоя у окна, помахала ему по привычке, так уж у них было заведено. А ночью ее не стало.
Но это все случилось позднее, в тот раз Клава еще чувствовала себя счастливой, прочно защищенной от любой напасти своим домом, родителями и даже Костей…
Хмелевский в троллейбусе сел рядом с нею, она не поворачивала головы, безошибочно чувствуя его взгляд. Он не сводил с нее глаз, она хотела было встать и выйти, но тут он спросил:
— Простите, вас зовут не Ирина?
— Нет, — ответила она. — Не Ирина.
— А как же, если не секрет?
Она обернулась, решив отрезать нахала как следует, и вдруг увидела на редкость красивого, привлекательного человека.
Хотела просто молча встать и выйти из троллейбуса и — не смогла.
Вот так оно все и началось. С того дня Клава стала избегать Костю. Поначалу он ничего не понимал, приходил к ней, как обычно, вечерами, подолгу сидел с ее мамой, мама говорила: «Наверное, после занятий она осталась на драмкружок…»
Для мамы давно уже все стало ясно, только она не хотела вмешиваться, правда, как-то сказала Клаве:
— Как же так можно? Подумай, каково Косте…
Клава отмолчалась, а мама продолжала:
— До чего же мне его жаль, беднягу…
Она и в самом деле жалела его, когда он приходил, старалась накормить его повкуснее, расспрашивала, какой учится, иногда просила:
— Проверь проводку, что-то у нас выключатель в коридоре искрит.
Или:
— Почему-то из крана на кухне вода все время капает, погляди, что там такое…
Или просила починить давно и прочно заглохший пылесос.
Не так уж для этого был необходим Костя, Клавин отец, технолог машиностроительного завода, был сам мастер на все руки, ему все казалось под силу, но маме хотелось, чтобы Костя ощутил себя нужным для их семьи. Костя охотно менял проводку, ставил другую прокладку в кране, чинил пылесос, который вдруг начинал с неутихающей силой глотать пыль и мусор.
Клава являлась домой поздно, иной раз тогда, когда родители уже спали. Крадучись проходила в свою комнату, долго не могла заснуть, вновь и вновь вспоминая о том, с кем только что рассталась.
Людей, подобных Хмелевскому, ей еще никогда не приходилось встречать, поистине уникальная личность. Во всяком случае, непохожая ни на кого другого.
Ее поражала его абсолютная откровенность решительно во всем, прежде всего то, что относился к самому себе совершенно объективно и беспристрастно.
— Я — человек одноминутных импульсов, — признавался он подчас.
— Это хорошо или плохо? — спрашивала она.
— Не знаю, скорее, наверно, плохо, но принимай меня таким, какой я есть, другим уже не стану…
И она принимала его именно таким, какой он есть.
Он говорил:
— Моя вторая профессия — человековедение.
Должно быть, так оно и было на самом деле. Он пытливо, вдумчиво вглядывался во всех, с кем приходилось встречаться, умел навести на открытый, без единой утайки разговор, умел заставить кого угодно раскрыть ему душу.
Сознавал свое обаяние, способность расположить к себе каждого, утверждал:
— Для меня нет загадочных людей. Все двуногие достойны только одного — презрения…
Впрочем, тут же опровергал самого себя:
— Кроме тебя. Ты — единственная, неповторимая, исключительная!
Забрасывал ее словами, одно другого краше, цветистей, и она, обычно с иронией относившаяся ко всякого рода комплиментам и преувеличениям, впитывала каждое его слово, подобно земле, глотающей капли дождя в засуху.
Человековедение — наука, подразумевающая широкий охват явлений. Он не только изучал людей, не только стремился вызвать каждого на откровенность, умел подметить самое обидное, смешное, или то, что предпочитали скрывать, потом с непревзойденным наслаждением пародировал тех, с кем, казалось, связан самыми крепкими дружескими связями.
Как-то сказал Клаве:
— У меня была очень умная мама. А я был непослушный малый, ничего нельзя было со мною поделать. Мама поучала меня: «Не перечь, не противься, не старайся доказать каждому, что ты выше его на голову, напротив, старайся как пчела взять от каждого человека то, что для тебя выгодно и необходимо, только так…»
— А ты что же? — спрашивала Клава.
Он смеялся.
— Я? А что я? Я шел своей дорогой, не собирался быть ни пчелой, ни бабочкой.
Ей хотелось спросить его о том, кто у него есть, женат ли — и не могла спросить. Язык прилипал к гортани, каждое слово давалось с трудом. В конце концов решила: захочет — сам все скажет, не надо ни о чем спрашивать.
Иной раз она ловила себя на том, что сердится на него. Так бывало тогда, когда он издевательски рассказывал о тех, с кем, по его словам, ему приходилась встречаться чуть ли не каждый день, работать бок о бок.
Сколько всякого рода насмешек обрушивалось на голову того или иного незадачливого знакомца, сослуживца, родича, как ловко и лихо с чисто садистским удовольствием Хмелевский умел подметить самое смешное, самое некрасивое, он обладал острым приметливым глазом, в этом ему не откажешь…
— Как можно так говорить о людях? — спрашивала Клава. — Ведь ты решительно никого не любишь, всех презираешь…
— Далеко не всех, тебя, например, люблю, — отвечал он. Ну, что с ним поделаешь?
Она боялась познакомить его со своими родителями. Боялась, что он и в них, как во всех остальных, сумеет подметить что-то смешное, некрасивое и потом начнет так же передразнивать, пародировать манеры, голос, само выражение лица…
Впрочем, он и не рвался знакомиться с ее родными.
— Мне достаточно тебя одной, — говорил подчас.
Сперва он скрыл от нее, что женат. Позднее она поняла, когда узнала обо всем, он потому так свободно распоряжался своим временем, что семья была на даче.
— Увы, — сказал он однажды. — Я, Клавочка, если хочешь знать, женатый человек.
У нее внезапно больно сжалось сердце, до того больно, что, казалось, не сумеет дышать. Однако постаралась не показывать вида, спросила почти весело: