Обещание на заре (Обещание на рассвете) (др. перевод)
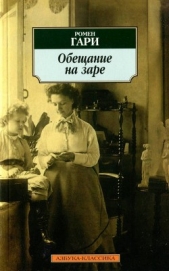
Обещание на заре (Обещание на рассвете) (др. перевод) читать книгу онлайн
Пронзительно нежная проза, одна из самых увлекательных литературных биографий знаменитого французского писателя, лауреата Гонкуровской премии Р. Гари.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но я думал, мы вроде как евреи?
— Это не важно, я знакома с попом.
Объяснение показалось мне приемлемым. Мать всегда доверяла личному знакомству, даже в отношениях со Всевышним.
В своем отрочестве я обращался к Богу неоднократно и даже по-настоящему переменил веру, когда у матери случился первый приступ гипогликемии и я присутствовал при инсулиновой коме, бессильный чем-либо ей помочь. Вид землистого лица, завалившейся набок головы, руки, прижатой к груди, и полного упадка сил, хотя ей еще столько предстояло сделать, немедля погнал меня в первый же попавшийся храм, и им оказался собор Богоматери. Я это сделал тайно, опасаясь, как бы мать не увидела в этом призыве к сторонней помощи недостаток доверия, веры в нее, а также признак серьезности ее состояния. Я боялся, как бы она не вообразила вдруг, будто я на нее уже не рассчитываю, будто обращаюсь к кому-то помимо нее, поскольку это означало бы в конечном счете, что я от нее отворачиваюсь. Но очень скоро мое представление о божественном величии показалось мне несовместимым с тем, что я видел на земле, а ведь счастливую улыбку на лице моей матери я хотел увидеть именно здесь. И тем не менее слово «атеист» мне нестерпимо; я нахожу его глупым, устарелым, оно попахивает затхлой пылью веков и как-то по-мещански, реакционно ограниченно — не могу толком определить, но оно выводит меня из себя, как все самодовольное, самонадеянное, притязающее на полное вольнодумство и осведомленность.
— Ладно. Идем в русскую церковь в Императорском парке.
Я подал ей руку. Она ходила еще довольно быстро, решительной походкой, как люди, имеющие цель в жизни. Теперь она носила очки — в черепаховой оправе, подчеркивавшей красоту ее зеленых глаз. У нее были очень красивые глаза. Лицо увяло, покрылось морщинами, и она держалась уже не так прямо, как прежде. Все больше и больше опиралась на свою палку. Хотя ей было всего пятьдесят пять. Теперь у нее добавилась еще и хроническая экзема на запястьях. Ни у кого нет права так поступать с человеческими существами. Я в то время мечтал порой превратиться в дерево с очень твердой корой или в слона со шкурой во сто крат толще моей. Мне случалось также, как случается еще и поныне, брать свою рапиру, выходить на поединок и, даже обойдясь без принятого приветствия, скрещивать сталь с каждым лучом небесного света. Я становлюсь в позицию, сгибаюсь пополам, скачу, напираю, пытаюсь уколоть, порой с моих губ срывается крик: «Эй, там!» — я бросаюсь вперед, ищу противника, делаю обманные движения, распрямляюсь, почти как на корте Императорского парка, когда я отчаянно выплясывал в погоне за мячами, которых мне не удавалось коснуться.
Из забияк меня больше всех восхищал Мальро. Именно с ним я предпочел бы скрестить клинок. В своей поэме об искусстве Мальро предстал предо мной как великий автор и актер своей собственной трагедии. Скорее, мим, мим-универсал: когда я, один-одинешенек на своем холме, лицом к небу жонглирую тремя мячиками, чтобы показать, на что способен, я думаю о нем. Вместе с Чаплином былых времен он, безусловно, самый трогательный и человечный мим, какого знал век. Эта блистательная мысль, обреченная свестись к искусству, эта рука, протянутая в вечность и встречающая лишь другую человеческую руку, этот дивный ум, вынужденный удовлетворяться самим собой, этот потрясающий порыв проникнуть, разгадать, переступить, зайти за грань и достигающий в итоге лишь красоты, всегда братски подбадривали меня в поединках.
Мы шли по бульвару Карлон в сторону бульвара Царевича. В церкви оказалось пусто, и мать, похоже, была этим довольна: все ж таки какое-то исключение.
— Кроме нас никого, — сказала она. — Не придется ждать.
Она выражалась так, будто Бог — врач и нам повезло попасть на прием в промежуток между другими пациентами. Она перекрестилась, и я тоже перекрестился. Она опустилась на колени перед алтарем, и я тоже опустился рядом. По ее щекам покатались слезы, а губы забормотали старые русские молитвы, где постоянно повторялось Иисусе Христе. Я держался рядом, опустив глаза. Она ударила себя в грудь и, не оборачиваясь ко мне, шепнула:
— Поклянись мне, что никогда не возьмешь денег у женщин!
— Клянусь.
Мысль, что она сама тоже женщина, не приходила ей в голову.
— Господи, помоги ему выстоять, помоги продержаться, храни от болезней!
Обернувшись ко мне:
— Поклянись мне, что остережешься! Обещай, что ничего такого не подцепишь!
— Обещаю.
Мать еще долго стояла на коленях, уже не молясь, только плача. Потом я помог ей встать, и мы снова оказались на улице. Она утерла слезы и вдруг разом повеселела. А когда повернулась к церкви напоследок, в ее лице появилось даже что-то почти по-детски плутоватое.
— Поди знай, — сказала она.
Наутро меня ждал парижский автобус. Прежде чем уехать, пришлось сесть и посидеть какое-то время, согласно древнему русскому суеверию, чтобы отвести от себя неудачу. Она вручила мне пятьсот франков и вынудила держать их в сумочке на животе, под рубашкой, на тот случай, конечно, если автобус остановят разбойники. Я дал себе слово, что это последние деньги, которые я у нее беру, и, хотя не совсем сдержал обещание, в тот момент это меня успокоило.
В Париже я заперся в крохотном гостиничном номере и, забросив лекции юридического факультета, стал запоем писать. В полдень отправлялся на улицу Муфтар, где покупал хлеб, сыр и, разумеется, соленые огурцы. Мне никогда не удавалось донести огурцы до дома: я их поедал тут же, прямо на улице. На протяжении многих недель они были моим единственным источником удовлетворения. Хотя искушений хватало. Когда я вот так столовался, стоя на улице спиной к стене, мой взгляд неоднократно привлекала к себе одна девушка красоты совершенно неописуемой: черноглазая, с такими прелестными темными волосами, что их не с чем сравнить за всю историю человеческих волос. Она делала свои покупки одновременно со мной, и я взял за правило поджидать ее на улице. Я совершенно ничего от нее не ждал — не мог даже пригласить ее в кино. Все, чего мне хотелось, это грызть свой огурец и любоваться ею. У меня всегда была склонность испытывать голод при виде красоты — пейзажей, красок, женщин. Я прирожденный потребитель. Впрочем, девушка в конце концов заметила странный взгляд, который я устремлял на нее, пожирая свои соленые огурцы. Должно быть, ее изрядно удивило мое неумеренное пристрастие к солениям, а также стремительность, с какой я их уплетал, и мой пристальный взгляд, поэтому она даже слегка улыбалась, проходя мимо. Наконец в один прекрасный день, когда я превзошел себя, заглотив целиком огромный огурец, она уже не смогла сдержаться и сказала мимоходом, с ноткой искренней озабоченности в голосе:
— Слушайте, так ведь и помереть недолго!
Мы завязали знакомство. Мне повезло, что первая девушка, в которую я влюбился в Париже, оказалась существом совершенно бескорыстным. Они с сестрой были студентками и наверняка самыми красивыми девушками в Латинском квартале того времени. За ней усердно ухаживали молодые люди на автомобилях, да и сегодня еще, двадцать лет спустя, когда мне случается встретить ее в Париже, мое сердце начинает колотиться быстрее и я вхожу в первую попавшуюся русскую лавочку, чтобы купить фунт соленых огурцов.
Как-то утром, когда у меня в кармане оставалось всего пятьдесят франков и очередное обращение к матери казалось неизбежным, я, открыв еженедельник «Гренгуар», вдруг обнаружил там свой рассказ «Гроза», занимавший целую страницу, и, везде, где полагалось, собственное имя довольно жирным шрифтом.
Я медленно закрыл еженедельник и вернулся домой. Я не испытывал никакой радости, наоборот, какую-то странную усталость и печаль: мой первый блин вышел комом.
Зато трудно описать сенсацию, вызванную опубликованием рассказа на рынке Буффа. В честь этого события корпорация поднесла матери аперитив, и были произнесены речи, с соответствующим акцентом. Мать положила номер еженедельника в свою сумку и уже никогда с ним не расставалась. А при малейшей стычке вытаскивала его оттуда, разворачивала, совала страницу, украшенную моим именем, под нос противнику и говорила:

























