Обещание на заре (Обещание на рассвете) (др. перевод)
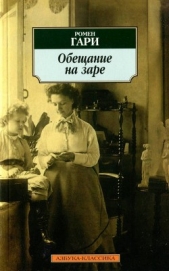
Обещание на заре (Обещание на рассвете) (др. перевод) читать книгу онлайн
Пронзительно нежная проза, одна из самых увлекательных литературных биографий знаменитого французского писателя, лауреата Гонкуровской премии Р. Гари.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Думаю, она пережила там некоторые из лучших минут своей жизни.
Всякий раз, возвращаясь в Ниццу, я иду на рынок Буффа. Долго блуждаю среди лука-порея, спаржи, дынь, кусков говядины, фруктов, цветов и рыбы. Звуки, голоса, жесты, запахи и ароматы не изменились, мне не хватает лишь самой малости, почти пустяка, чтобы иллюзия стала полной. Я брожу там часами, и морковь, цикорий и салат делают для меня, что могут.
Мать всегда возвращалась домой с охапками цветов и фруктами. Она глубоко верила в благотворное воздействие фруктов на организм, поэтому следила, чтобы я съедал их по крайней мере кило в день. С тех пор меня мучает хронический колит. Затем она спускалась в кухню, утверждала меню, принимала поставщиков, следила за подачей завтрака на этажи, выслушивала клиентов, руководила подготовкой пикников для экскурсантов, инспектировала погреб, вела счета, входила в каждую мелочь своего предприятия.
Однажды, вскарабкавшись в двадцатый раз по проклятой лестнице, ведущей из ресторана в кухню, она внезапно осела, лицо и губы посерели, голова слегка завалилась набок; она закрыла глаза и прижала руку к груди, сотрясаясь всем телом. Нам повезло, что диагноз врача оказался быстрым и точным: это был приступ гипогликемической комы, вызванный слишком большой дозой инсулина.
Только так я и узнал о том, что она скрывала от меня уже два года: у нее был диабет, и каждое утро, прежде чем начать день, она делала себе укол инсулина.
Меня охватил гнусный страх. Воспоминание о сером лице, о завалившейся набок голове, о закрытых глазах, об этой руке, страдальчески прижатой к груди, не покидало меня уже никогда. Мысль, что она могла умереть прежде, чем я исполню все, чего она ждала от меня, что она могла покинуть землю прежде, чем познает справедливость, это небесное отражение человеческой системы мер и весов, казалось мне вызовом здравому смыслу, добрым нравам, законам, чем-то вроде выходки метафизического гангстера, чем-то, что позволяет вам кликнуть полицию, воззвать к морали, праву и властям.
Я почувствовал, что мне надо торопиться, надо как можно скорее написать бессмертный шедевр, который, сделав из меня самого юного Толстого всех времен, позволил бы немедленно вознаградить мою мать за ее труды и стать венцом ее жизни.
И я взялся за дело не покладая рук.
С согласия матери я временно оставил лицей и, опять закрывшись в своей комнате, бросился на приступ. Я положил перед собой стопу в три тысячи листов белой бумаги, что, по моим подсчетам, соответствовало «Войне и миру», и облачился в подаренный матерью очень просторный халат, наподобие того, который уже принес известность Бальзаку. Пять раз в день она приоткрывала дверь, ставила на стол поднос с пищей и выходила на цыпочках. Я творил тогда под псевдонимом Франсуа Мермон. Тем не менее, поскольку издатели регулярно возвращали мои произведения, мы решили, что псевдоним плох, и следующий том я написал под именем Люсьен Брюлар. Этот псевдоним тоже не понравился издателям. Помню, как один из этих спесивцев, свирепствовавший в Н. Р. Ф, когда я подыхал с голоду в Париже, вернул мне рукопись со словами: «Заведите любовницу и приходите через десять лет». Когда я и в самом деле вернулся через десять лет, в 1945-м, его там, к несчастью, уже не оказалось: расстреляли.
Мир для меня сжался до размеров листка бумаги, на который я набрасывался со всем лиризмом ожесточенного отрочества. И тем не менее, вопреки всей этой наивности, именно в ту пору я впервые осознал важность задачи и ее глубокую природу. Меня обуяла жажда справедливости для человека — всего целиком, какими бы презренными или преступными ни были его воплощения, и именно она впервые бросила меня к подножию моего будущего произведения; и если правда, что эта жажда болезненно коренилась в моей сыновней нежности, то ее побеги постепенно пронизали все мое существо, пока литературное творчество не стало для меня тем, чем всегда является в великие моменты своей искренности, — разрывом, через который пытаются ускользнуть от невыносимого, способом отдать душу, чтобы остаться в живых.
При виде этого посеревшего, склоненного лица с закрытыми глазами и этой руки на груди передо мной вдруг впервые встал вопрос: стоит ли жить? И мой ответ на него был немедленным, может потому, что его продиктовал инстинкт самосохранения: я лихорадочно настрочил рассказ, озаглавленный «Правда о деле Прометея», который и сегодня еще остается для меня правдой о деле Прометея.
Ибо не подлежит сомнению, что нам переврали подлинную историю Прометеева подвига. Точнее, скрыли от нас ее конец. То, что за кражу огня у богов Прометей был прикован к скале и стервятник клевал его печень, — истинная правда. Но через какое-то время, когда боги бросили взгляд на землю, желая посмотреть, что же там происходит, они вдруг увидели, что Прометей не только избавился от оков, но и сам схватил стервятника и поедает его печень, чтобы набраться сил перед подъемом на небо.
Все ж таки сегодня печень у меня побаливает. Признаться, есть из-за чего: я приканчиваю уже десятитысячного стервятника. А мой желудок уже не тот, что прежде.
Но я делаю, что могу. В день, когда последний удар клюва сгонит меня с моей скалы, я приглашаю астрологов понаблюдать появление нового зодиакального знака: отродья человеческого, вцепившегося всеми зубами в печень какого-нибудь небесного стервятника.
Мое окно открывалось на улицу Данте, ведущую от отеля-пансиона «Мермон» к рынку Буффа. Сидя за рабочим столом, я издалека видел, как возвращается мать. Однажды утром меня охватило необоримое желание посоветоваться с ней и спросить, что она обо всем этом думает. Она вошла в мою комнату без всякой причины, как это часто случалось, просто чтобы молча выкурить сигарету в моем обществе. Я как раз готовился к экзамену и учил по этому случаю какой-то туманный бред об устройстве вселенной.
— Мама — сказал я. — Мам, послушай.
Она стала слушать.
— Три года лиценциата, два года в армии…
— Ты будешь офицером, — перебила она.
— Ладно, но это все равно пять лет. А ты больна.
Она тут же попыталась меня успокоить:
— Учебу закончить успеешь. Ты ни в чем не будешь нуждаться, будь спокоен…
— Господи, да я же не об этом… Я боюсь, что не успею… не успею вовремя…
Она все же задумалась. Долго, спокойно размышляла. А потом сказала, шумно засопев и положив руки на колени:
— Есть справедливость.
И пошла заниматься рестораном.
Моя мать верила в более логичное, более возвышенное и более связное устройство вселенной, чем все, что можно было вычитать об этом из учебника физики.
В тот день на ней было серое платье, фиолетовая шаль, нитка жемчуга и серое пальто, наброшенное на плечи. Она поправилась на несколько кило. Врач мне сказал, что она может протянуть еще несколько лет. Я уткнулся лицом в ладони.
Если бы только она смогла увидеть меня в мундире французского офицера! Даже если мне никогда не суждено стать послом Франции и нобелевским лауреатом по литературе, сбылось бы хоть одно из ее самых прекрасных мечтаний. Начать учебу на юридическом мне предстояло уже этой осенью, и если чуточку повезет… Через три года я смог бы триумфально явиться в отель-пансион «Мермон» в форме младшего лейтенанта авиации. Мы с матерью выбрали авиацию, и уже довольно давно: перелет Линдберга [85] через Атлантику произвел на нее живейшее впечатление, а я опять злился на себя, что не додумался до этого первым. Я бы прошелся с ней по рынку Буффа, разодетый в синее с золотом, с крылышками где только можно, на зависть моркови, порея и всех этих Панталеони, Ренуччи, Буппи, Чезари и Фасолли; я бы гордо вышагивал рука об руку с матерью под триумфальными арками из колбас и головок лука, ловя восхищение даже в круглых глазах мерланов.
Наивное преклонение моей матери перед Францией постоянно меня удивляло. Когда какой-нибудь выведенный из себя поставщик обзывал ее «чертовой иностранкой», она улыбалась и, движением своей палки призвав весь рынок Буффа в свидетели, заявляла:

























