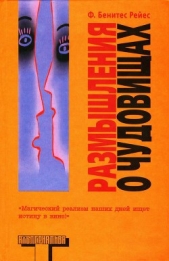Осажденный город

Осажденный город читать книгу онлайн
В романе Кларисе Лиспектор «Осажденный город» история города рисуется как история любви — любви истинной, с враждебностью, ненавистью, изменой, и в «палитре» писательницы — романтизм и философия, миф и фольклор, тонкий психологический анализ и изыски модернистского стиля. Судьба города — главного героя романа — переплетается с судьбой наивной деревенской девушки Лукресии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но в сумерки солнце стало блекнуть. И над воображаемым городом ветер начал дуть сильнее и колыхать колосья, закутывая их в темноту. «Дождь, что ли, собирается?» — подумала она, торопясь в обратный путь, а то, пожалуй, не успеет встретить доктора Лукаса — но ветер бежал быстрее шагов, завивал юбку спереди, обнажал затылок, слепя волосами, налетевшими на лицо, и гнал, гнал — это ее-то, кому недоставало, что маис растет и зреет.
Именно в этот вечер, глядя на Лукаса — может быть, потому, что вновь нуждалась в нем, — она вообразила, что он наконец готов уступить. На мгновенье только: не потому ли, что в темноте и ветре представится страстным и такое звериное лицо, как это?..
…Но была ли то страсть, или жажда состраданья? Ибо во тьме ночи виделся он ей зверем — с головой быка, или пса, — нет, с головой человека… Но человека такого, чтоб пастись на лугу, и жевать жвачку, и вонзать на ходу в высокие листья зубы, и стоять на ветру бездумным и мощным, царем зверей, с головой, погруженной во тьму ночи…
Или это безумие от одиночества? Царь зверей… В тоске хотела она повернуть спину всему и уйти отсюда — настолько еще предпочитала слова смутных обещаний этой обнаженности без красоты, этой правде, от которой веяло больницей и войной. Никогда еще она не была так приперта к стене.
С досадой отвела она глаза — ведь она даже и не любила его, а ветер шумел среди веток. Но в следующий же миг, от усталости, она вся отяжелела и воля в ней угасла: о, это и была женщина для такого мужчины. Крепкая, грубая, терпеливая, не ждущая награды, она сама была покорным существом с головой животного, и от этого другого зверя ждала лишь, без любопытства, приказа следовать за ним… или остановиться, и тащилась дальше, потная, сопротивляясь как умела. Чтоб ночью вздеть голову рядом с головой зверя, и вместе жевать жвачку во тьме тишины, и вместе выжить в темной своей победе.
Но, может быть, это все — от Бога. Ведь сказано было, что люди станут добывать хлеб в поте лица своего и что женщины будут рожать детей в муках. Нельзя и сказать, чтоб она его любила, так все бесславно. Стоят один против другого, без умысла, без пола, вцепившись в мрачную радость существования.
Даже если странный ответ женщины прозвучит снова: «Предпочитаю жить в городе». И ничего не остается, как обвинить ее за то, что не схватилась за возможность принадлежать человеку, а не вещам.
По правде, он ничего ей и не предложил, была только голова, сдавленная темнотой. Они проявят каждую мысль на мосту, каждое намеренье на рельсах дороги. Однако один ожидал, что другой угадает, если не поймет, — жажда быть понятым никогда еще не была так сильна. И не надо ничего, кроме этого мига переживания, — так было, так будет.
В следующий вечер — она опять ждала его у двери консультации, оба были измучены бессонницей — Лукас сказал наконец, что так продолжаться не может.
Лукресия испугалась, словно не знала о чем речь, и он, видя такую фальшивую наивность, рассвирепел. Она стала плакать, вначале тихонько — казалось, она удивлена такой его поспешностью, — говоря, что она навсегда погублена, что все навсегда испорчено, хоть оба и не совсем понимали, про какое такое «все» она говорит… что она ожидала от него «чего-то грандиозного, да, доктор Лукас», и что он ее погубил навсегда уже — повторяла она, рыдая и глотая слезы и отдельные слоги.
Он дико смотрел на нее, наблюдая, как она плачет и путает слова: она казалась такой чистой и чистосердой. Он сказал сурово, как врач: «Успокойтесь». Рыданья немедля прекратились. Она утерла глаза и громко высморкалась…
Но без слез она стала просто ужасна. Губы так жирно накрашены… Лицо в темноте бессмысленно, призрачно, отталкивающе… Врач смолк пред этой правдой, какую выразили, к ужасу для взгляда, черты человеческого лица. Хотел спросить, чем так ее ранил, но это было уже неважно; когда увидал ее лицо без маски, понял, что тем ли, другим ли, но он ее и правда ранил. Отметил про себя, что эта женщина ни на что конкретное не жалуется. Но жалуется на него самого, что было столь же неясно, сколь серьезно и осуждающе; он был задет за живое.
Лукресия отошла далеко в тень, он не мог видеть ее и сам не знал, к кому обращается, когда произносил отсутствующим и сухим тоном следующие слова:
— Я не знаю, в чем моя вина, но прошу прощения. — Свет фонаря выхватил их из тьмы так резко, что они не успели увидеть друг друга. — Прошу у вас прощения за то, что я не «звезда» и не «море», — сказал он с иронией, — или за то, что я не вещь, какую отдают и берут, — добавил он, покраснев. — Прошу прощения за то, что не отдаю себя даже себе самому… до сих пор у меня просили только доброты… но я сам никогда… чтоб отдать себя таким образом, я б пожертвовал жизнью, если нужно… — но я снова прошу у вас прощения, Лукресия: я не умею жертвовать жизнью.
Это была самая длинная речь, какую он произнес до этого дня, и самая постыдная. Ему трудно было говорить, и он поспешил укрыться в самом темном месте. Понимал ли он, лучше ее самой, что Лукресия желала лишь теплого слова? Просила лишь теплого взгляда и ничего более? Он испугался, что она жаждет такой малости. Испугался, глядя на это существо рядом: такое слабое, а не умирает…
Ибо он был так жалок, что, если б его сила иссякла, он умер бы на месте. Он взглянул в темноте на свои руки. Угадывал свои толстые пальцы, костистую пясть, длинную ладонь. Чувствительность рисовалась лишь в сети прожилок. «Чего она ждет от меня? — спрашивал он себя, глядя на свои руки, которые были его силой, — чего она ждет от меня?..» — и его воздержанность была столь же невыносима, сколь вольным казался воздух ночи. Он расстегнул воротник рубашки, повертел шеей, глядя в небо. Свежестью веяло меж деревьев…
Он привык понимать только слова; теперь же то, чему нет слов, понималось его грубыми руками, ритмом его шагов, что не остановятся, даже если сердце будет поражено, — таково его бессилие.
Так брел он по тропинкам по направлению к центру городка, думая совсем не о Лукресии Невес. И почти не ощущал сырости ночи; шел нахмурясь, без будущего.
И Лукресия тоже… Но нет, под ничтожной ее оболочкой кипела работа — без времени, как на войне. Он?.. У него не было жалости ни к себе, ни к Лукресии. Он был спокойный, сильный. Потому что он был мужчина… — если попытаться, с натяжкой, определить его, отринув его неведомые ночи и вечную работу, — он был мужчина неторопливый, прямодушный и не щадил себя. Что, впрочем, никогда ему не помогало. Легче было бы подумать, что он человек слабый. Но нет. Он был сильный.
Что не помешало ему смутиться, когда Лукресия вынудила его задать вопрос самому себе: в чем же его вина?.. Которая так, видно, велика, что для нее уже нет наказания.
Личная жизнь? Опасность в том, что каждый человек ворочает целыми веками.
Несколько поколений до него были уже изгнаны из поселья и отданы во власть одиночества; и если он отринул самолюбие, какое должно бы обостриться, то потому лишь, что его сознание — больше, чем сознание, прошлое с памятью, — заставляло его скрывать радость быть одному.
Сейчас, однако, не требовалось защищать себя. Сейчас требовалось потерять себя, коснувшись крохотной животрепещущей точки в себе, какую Лукресия Невес почти пробудила, — и не надо уже скрываться, чтоб скрыть свою гордость, и не надо уже, наверно, быть таким хорошим врачом — ибо в крохотной точке себя самого он замкнут навсегда — выхода нет.
Доктор кашлянул, чтоб скрыть растерянность. Новопришедшие, наверно, обвинят его, что он и смеется теперь по-другому. Все, что он сказал себе, должно случиться… и он вздрогнул, больше себе не сострадая. Как расквакались в темноте эти лягушки… он вытер губы платком.
Как разгадать Лукресию, разгадать его жену, что вышивает в своем санатории, просит купить ей красных ниток и подымает с надеждой голову, когда приходит муж? Лукресия… Каким-то едва заметным знаком вспыхнула ее странная судьба, ее странная сила. Ранее смерти затесалась она в толпу отлетевших душ, какие даже самый суровый человек чувствует в воздухе глубокой ночью.