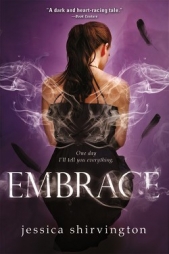Что я любил

Что я любил читать книгу онлайн
Сири Хустведт — одна из самых заметных фигур в современной американской литературе: романистка, поэтесса, влиятельный эссеист и литературовед, а кроме того — на протяжении без малого тридцати лет жена и муза другого известного прозаика, Пола Остера. "Что я любил" — третий и, по оценкам критики, наиболее совершенный из ее романов. Нью-йоркский профессор-искусствовед Лео Герцберг вспоминает свою жизнь и многолетнюю дружбу с художником Биллом Векслером. Любовные увлечения, браки, разводы, подрастающие дети и трагические события, полностью меняющие привычный ход жизни, — энергичное действие в романе Хустведт гармонично уживается с проникновенной лирикой и глубокими рассуждениями об искусстве, психологии и об извечном конфликте отцов и детей. Виртуозно балансируя на грани между триллером и философским романом, писательница создает многомерное и многоуровневое полотно, равно привлекательное как для "наивного" читателя, так и для любителя интеллектуальной прозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хотя Мэт постоянно рисовал бейсбол — поле и игроков, — в его рисунках и картинах все равно присутствовал Нью-Йорк. С течением времени рисунки становились все сложнее. Тут был Нью-Йорк при ярком свете дня и под ровным серым небом. Мэт рисовал его при сильном ветре, под дождем, в снежной заверти метели. Он делал виды города сверху, снизу и сбоку, населял его улицы уверенными бизнесменами, богемного вида художниками, тощими моделями, попрошайками и бессвязно бормочущими психами — сколько раз мы их видели по дороге в школу! Он рисовал Бруклинский мост, статую Свободы, Крайслер-билдинг, башни-близнецы. Когда Мэт приносил мне свои городские зарисовки, я всегда их подолгу рассматривал, потому что знал, что только пристальному взгляду откроются детали: обнимающаяся в парке парочка, зареванный малыш на углу улицы и беспомощно стоящая рядом мама, заблудившиеся туристы, воры-карманники за работой, шулера, предлагающие прохожему угадать одну карту из трех.
Летом того года, когда Мэту исполнилось девять, на всех его городских пейзажах стал появляться один и тот же персонаж — бородатый старик. Как правило, он маячил в окне крохотной квартирки. Подобно одиночкам с полотен Эдварда Хоппера, он всегда был сам по себе. Иногда на рисунках появлялся серый кот, он либо крался по подоконнику, либо лежал на полу, свернувшись клубочком. Но людей рядом со стариком не было никогда. На одном из рисунков он сидел сгорбившись, обхватив голову руками.
— Смотри-ка, — сказал я сыну, — этот бедолага появляется у тебя уже не в первый раз.
— Это Дейв, — ответил Мэт. — Его так зовут, Дейв.
— Почему Дейв?
— Не знаю, просто зовут так, и все. Он совсем один. Я все время думаю, что ему надо с кем-то подружиться, а потом начинаю рисовать, и он опять получается один.
— Похоже, жизнь у него невеселая.
— Мне его очень жалко. У него никого нет, только Дуранго.
Мэт указал на кота:
— Но ты же знаешь этих кошек. Они никого не любят по-настоящему.
— Ну, — нерешительно начал я, — может быть, он еще встретит друга…
— Ты так говоришь, потому что думаешь, что раз я его выдумал, то я и друга могу ему выдумать. А дядя Билл говорит, что так нельзя, он говорит, что надо всегда чувствовать, где правда, а правда может быть там, где грустно. Так у художников бывает.
Я посмотрел на серьезное лицо сына и еще раз взглянул на Дейва. Мэт не упустил даже вены на кистях старческих рук. Рядом с Дейвом на полу стояла тарелка и грязная чашка из-под кофе. Это был еще очень детский рисунок, со слабой перспективой, с анатомическими искажениями, но меня поразила линия, очерчивающая фигуру одинокого старика. Она брала за сердце. С тех пор на каждом "городском" рисунке Мэта я первым делом искал Дейва.
По вечерам мы гуляли, спускались с холма по проселку. Или ехали на базарчик в Дуттоне, чтобы купить к ужину помидоров, перцев и фасоли. В погожие дни ходили купаться на пруд, благо он был в двух шагах от дома. Все, кроме Билла, — он, как правило, работал дольше остальных. И никогда не готовил — зато мыл посуду. Но пару раз за лето, когда уж очень припекало, он выходил из "Бауэри номер два" и шел к нам, чтобы окунуться. Мы видели, как он шагает по траве, раздевается на берегу и остается в одних трусах. Казалось, время над ним не властно. С того дня, как мы познакомились, он не постарел ни на день. Билл медленно входил в воду, нервно покрякивая по мере того, как становилось глубже. Между большим и указательным пальцем он сжимал окурок и поэтому вынужден был поднимать руку все выше и выше над поверхностью воды. За пять лет, которые мы провели в Вермонте, я всего раз видел, как он окунается с головой, ныряет и вообще плавает. Но кстати, именно тогда я обратил внимание на его быстрые и мощные гребки.
Летом того года, когда мне исполнилось пятьдесят шесть, я обнаружил, что мое тело стало другим. Это произошло как раз в тот день, когда Билл плавал, а Мэт с Марком дружно подбадривали его на другом конце пруда и требовали, чтобы он плыл к ним. Я уже вылез из воды и обсыхал в плавках на берегу. Взглянув на свое тело, я вдруг заметил, какие у меня шишковатые, костлявые пальцы на ногах. Под левым коленом, не пойми откуда, вылезла надутая варикозная вена, тонкие волоски на груди совсем поседели. Плечи и торс как-то съежились, бледную кожу покрывала россыпь коричнево-красных пигментных пятен — "гречка". Но хуже всего были мягкие белые складки жира, которые внятно обозначались на поясе и животе. Я же всю жизнь был поджарым! Нет, конечно, по утрам, застегивая брюки, я чувствовал, что они стали как-то подозрительно тесны, но почему-то не спешил бить тревогу. Дело в том, что я позабыл, какой я. В моем сознании существовал некий автопортрет, который на самом деле давно не соответствовал действительности. Ну, скажите на милость, где я мог себя увидеть? Бреясь по утрам, я смотрел только на свое лицо. Случайные отражения в витринах или стеклянных дверях? Видел, но мельком. В ванной? Но я там мылся, а не изучал изъяны собственного тела. Я сам для себя стал анахронизмом. Когда я спросил Эрику, почему она молчала обо всех этих малосимпатичных изменениях, она ухватила меня за жирную складку на талии и весело сказала:
— Да брось ты, я тебя и толстого, и старого все равно люблю.
Какое-то время я тешил себя надеждами на возможную метаморфозу. Поехав в командировку в Манчестер, я купил себе гантели и честно пытался за ужином налегать на брокколи, а не на ростбиф, но моего запала хватило ненадолго. Тяготы самоограничений оказались сильнее тщеславия.
В последнюю неделю августа всегда приезжал Ласло, чтобы помочь Биллу перевезти работы в Нью-Йорк. Я как сейчас вижу комичную фигуру, таскающую через двор короба и рамы из летней мастерской в фургон: красные штаны в обтяжку, черные туфли из мягкой кожи и всегдашнее каменное выражение лица. Причем комизм был не столько в лице, сколько в прическе. Пышный белобрысый веник у Ласло на голове словно намекал, что где-то в глубине загадочной финкельмановской души таятся юмористические изыски. Подобно реквизиту безмолвного мима, шевелюра говорила за него, придавая ему вид эдакого наивного, бесталанного простака, современного Кандида, единственной реакцией которого на окружающую действительность может быть только искреннее безграничное изумление. На самом же деле Ласло был просто спокойным и неконфликтным человеком. Если Мэт приносил ему лягушку в подарок, он внимательно ее рассматривал, если его о чем-то спрашивали, он обязательно реагировал, коротко и ясно, если ему велели вытирать посуду, он принимался медленно и методично перетирать одну тарелку за другой. Именно эта ровность нрава и заставила Эрику поверить в то, что он "славный".
Для Эрики август неизменно начинался с мигрени, которая не отпускала ее по два-три дня. Сперва появлялись белые и красные мушки, мелькавшие на периферии поля зрения левого глаза, потом — сильнейшие головные боли до рвоты и судорог. Лицо ее становилось серым, под глазами залегала чернота. Она переставала есть, только спала, просыпалась и снова спала, никого к себе не подпуская. Малейший шум причинял ей невыразимые страдания. И, несмотря на все свои мучения, она чувствовала себя виноватой и все время лепетала какие-то извинения.
Когда Эрика слегла с мигренью в третий раз, Вайолет решила, что пора действовать. День был сырой, дождливый. Эрика с утра не выходила из нашей комнаты, и ближе к обеду я заглянул к ней. В спальне было темно, жалюзи опущены. Вайолет сидела у Эрики на спине и растирала ей плечи. Не говоря ни слова, я прикрыл дверь. Через час, когда я снова зашел, то еще из-за двери услышал голос Вайолет — очень тихий, монотонный. Они обе лежали на кровати, Вайолет прижимала голову Эрики к своей груди. Эрика приподнялась на звук открывающейся двери и слабо улыбнулась: — Мне уже лучше, Лео, — сказала она. — Правда, лучше.
Уж не знаю, может, Вайолет действительно обладала какими-то сверхъестественными способностями, может, в тот день мигрень у Эрики протекала неким особым образом, но как бы то ни было, теперь моя жена всякий раз обращалась к Вайолет за помощью. Когда в первую неделю нашего пребывания в Вермонте у Эрики начинался приступ, Вайолет принималась за свои магические растирания и нашептывания, в результате которых боль отпускала. Японятия не имею, что именно она говорила Эрике. Их взаимная приязнь перерастала в особые, я бы сказал, глубинно женские отношения, когда между взрослыми женщинами возникает девическая близость с ласками, секретничаньем и пересмешками.