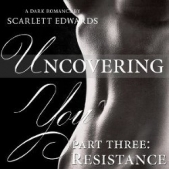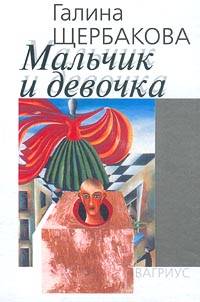Море

Море читать книгу онлайн
Роман Джона Бэнвилла, одного из лучших британских писателей, который выиграл Букеровскую премию в 2005 году.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кто-то кричал, мы с Роз оглянулись, увидели, как крупный краснолицый господин с седым бобриком к нам идет по дюнам, поспешает, комически высоко задирая ноги над зыбучим песком. В желтой рубашке, в штанах цвета хаки, в двуцветных туфлях, он размахивал клюшкой для гольфа. Туфли я, кажется, выдумал. Зато была перчатка, точно была, на правой руке, в которой он держал клюшку, такая бежевая, без пальцев, с круглыми дырочками, уж не знаю, почему она так меня зацепила. Он кричал, кричал, что надо бежать за полицией. И, кажется, сердился ужасно, и размахивал клюшкой, как зулусский воин дубинкой. Зулус — дубинкой? Вру, ладно, пусть будет копьем. Его кэдди тем временем, тощий безвозрастный недоросток в наглухо застегнутом твидовом пиджаке и твидовой кепке, издали наблюдал всю картину с сардоническим видом, небрежно пиная мешок с клюшками. Потом, откуда ни возьмись, как материализовался из воздуха, мускулистый юноша в тесных синих плавках разбежался, без предисловий бросился в воду и поплыл быстро, ловко рубя воду. Роз ходила взад-вперед вдоль края воды, три шажка туда, стоп, поворот, три шажка сюда, стоп, поворот, как бедная рехнувшаяся Ариадна на острове Наксос [22], и все прижимала к груди книгу, шапочку, полотенце. Скоро неудачный спаситель вышел из плоской воды, двинулся к нам трудной раскачкой пловца, тряся головой и отфыркиваясь. Бесполезно, он повторял, бесполезно. Роз вскрикнула, всхлипнула как-то и быстро-быстро затрясла головой, и тот, с клюшкой, внимательно на нее посмотрел. А потом они все уменьшаются, уменьшаются, потому что я бегу, я пытаюсь бежать, вдоль берега, в сторону Станционной, к «Кедрам». Почему я не срезал путь, не прошел по территории Гольфовой на дорогу, где куда бы легче было идти? Но я не хотел, чтоб было легче идти. Я не хотел приходить туда, куда шел. И теперь еще часто, во сне, снова я там, пробираюсь через песок, и он все неодолимей, упрямей, и ноги у меня тоже будто огромные, из зыбучей, сыпучей массы. Что я чувствовал? Сильней всего, кажется, ужас, то есть самому себе ужасался, — знал двух живых людей, и вот они вдруг, непостижимо, стали мертвыми. Но понимал ли я, что они умерли? У меня в душе они держались в огромном светлом пространстве, стоя, сплетясь руками, широко открыв глаза, твердо глядя перед собой в бескрайние глуби света.
Вот и зеленая калитка, машина на гравии, распахнутая, как водится, дверь. Все в доме тихо-спокойно. Я перемещался по комнатам, сам как из воздуха — летающий дух, Ариэль, свободный, потерянный. Миссис Грейс я нашел в гостиной. Она повернулась ко мне, приложила ладонь ко рту, и молочный свет падал на нее со спины. Все было тихо, только в окне сонно жужжало лето. Потом вошел Карло Грейс со словами: «Проклятая штуковина, кажется…», и он тоже смолк, и так мы и стояли, так и молчали, все трое.
Ну, каково?
Ночь, и все так тихо, как будто нет никого, даже меня нет. Я и моря не слышу, а в другие ночи оно грохочет, рычит, то близкое, резкое, то смутное, дальнее. Не хочу быть один, не хочу. Почему ты не вернулась, хоть призраком? Разве так уж я много прошу? И к чему это молчанье, день за днем, ночь за нескончаемой ночью? Оно как туман, твое это молчанье. Сперва только нависало над горизонтом, и вдруг мы в него вошли, ощупью, спотыкаясь, вцепившись друг в друга. А все в тот день началось, после визита к доктору Тодду, когда мы вышли из клиники на безлюдную парковку, и машины выстроились, скользкие, как дельфины, и ни звука, ни знака, и куда подевалась та девушка на высоких, цокающих каблуках. Потом наш дом онемел от ужаса, и сразу пошли немые коридоры больниц и притихшие палаты, приемные, и была та палата, последняя. Вышли свой призрак. Мучай меня, если хочешь. Греми цепями, разбрасывай по полу погребальные пелены, рыдай, как банши, делай что хочешь. Пусть будет призрак.
Где моя бутылка? Дайте мне мою большую детскую бутылочку. Мою соску.
Мисс Вавасур мне бросает жалостный взгляд. Я отвожу глаза. Она знает, какие вопросы хочу ей задать, умираю хочу задать с самого приезда, но не хватает храбрости. Сегодня утром, заметив, что я их про себя формулирую, опять она затрясла головой, впрочем, довольно милостиво. «Я ничем не могу вам помочь, — она улыбнулась. — И вы должны это знать». Что она имеет в виду, должен — при чем тут? Я ничего, ничего не знаю. Мы в салоне, сидим, как водится, у эркерного окна. День за стеклом яркий, холодный, первый настоящий зимний денек. Это я повествование веду в настоящем времени. Мисс Вавасур чинит что-то, подозрительно смахивающее на старые носки полковника. У нее такая деревянная штучка, в виде гриба, она на ней расправляет пятку, чтобы дыру заштопать. Я успокаиваюсь, глядя на непреходящие эти труды. А успокоиться надо. Голова как мокрой ватой набита, едкий вкус блевоты во рту, и никакие упражнения мисс Вавасур со сплошным молоком в чае, никакие ухищрения с испытанными тончайшими тостами мне не помогут. Да еще пульсирует синяк на виске. Сижу рядом с мисс Вавасур, сокрушенно конфузясь. Как никогда себя чувствую скверным подростком.
Но что за день был вчера, что за ночь, и потом, прости Господи, что за утро. А как многообещающе все начиналось. По злой иронии случая, как оказалось в дальнейшем, дочь полковника обещала приехать, вместе с Губби и детками. Полковник вовсю выдавал небрежность, напускал на себя грубость — «Это ж прямо нашествие!» — но после завтрака руки у него дрожали так, что трясся стол и звякали чашки на блюдцах. Мисс Вавасур требовала, чтоб все семейство осталось обедать, она курочку зажарит, и какое дети предпочитают мороженое? «Ах, ну что вы, — бормотал полковник, — нет, ну правда, зачем!» Тем не менее было ясно, что он глубоко тронут, и глаза у него на мокром месте. Я, собственно, был скорее не прочь глянуть на эту дочь и ее роскошного мужика. Мысль о внуках, правда, не сильно прельщала; малые детки, боюсь, вообще во мне будят не столь уж крепко спящего Жиля де Ре [23].
Визит назначался на двенадцать, но прогудел полуденный колокол, подошло и минуло время обеда, а не слышно было ни шелеста шин на гравии, ни резвых выкриков Малышей. Полковник ходил взад-вперед, отдергивал манжету, задирал к глазам руку, укоризненно сверлил глазами часы. Мы с мисс Вавасур как на иголках, слово сказать боялись. Совсем уже вечером дребезг телефона в коридоре всех бросил в дрожь. Полковник склонял ухо к трубке, как горюющий в исповедальне священник. Разговор был короткий. Мы старались не слушать. Он вошел на кухню, прочистил горло. «Машина, — сказал он, ни на кого не глядя, — пришла в неисправность». Явно ему наврали, или он сам теперь врал. Повернулся к мисс Вавасур с ужасной улыбкой: «За курочку извините».
Я его подбивал пойти со мной выпить, но он отказался. Сказал, что устал немного, что-то голова заболела чуть-чуть. И удалился к себе в комнату. Как тяжело он ступал по лестнице, как осторожно прикрыл за собой дверь уборной. «О Господи», — вздохнула мисс Вавасур.
А я пошел в бар «На Молу» и надрался. Я не хотел, так вышло. Был один из тех заунывных осенних вечеров в прочерках позднего света, которые кажутся воспоминаньем о том, что когда-то, давным-давно, цвело ослепительным полднем. Дождь оставил по себе на дороге лужи, они были бледнее неба, в них догорали остатки дня. Ветер трепал полы пальто, они хлопали меня по ногам, как будто мои собственные малые детки молили папочку не ходить, не ходить в этот паб. Но я пошел. «На Молу» — безрадостное заведенье под председательством огромного телевизора, он близнец аппарата у мисс Вавасур и вечно включен, только вырублен звук. Хозяин — толстый, неповоротливый, немногословный. Какая-то у него чудная фамилия, вдруг из головы выскочило. Я пил двойные бренди. Отдельные моменты проступают в памяти, ярко пушась, как фонари в тумане. Помню, полез в спор со стариком у стойки, или это, наоборот, он ко мне пристал, другой, гораздо моложе, сын его, внук, старался меня унять, я пихнул его, он грозился позвать полицию. Хозяин вмешался — Баррагри его фамилия, вот! — его я тоже пытался пихнуть, с хриплым криком нависая над стойкой. Ей-богу, это совсем на меня не похоже, не понимаю, в чем было дело, помимо того, в чем обычно бывает дело. Наконец меня угомонили, я мрачно отступил к безгласному телевизору, сел за столик в углу, разговаривая сам с собой и вздыхая. Эти пьяные вздохи, шипучие, судорожные, как похожи они на рыданья. Последний свет вечера, который я видел за незакрашенной полоской окна в кабаке, был того свирепо-фиолетового отлива, который меня покоряет, но и отталкивает: цвета самой зимы. Не то чтоб я имел что-то против зимы, да нет же, это мой самый любимый сезон после осени, но сиянье этого ноября мне показалось предвестием не только, не просто зимы, и я впал в горькую меланхолию. Предполагая облегчить сердце, я потребовал еще бренди, но Баррагри мне отказал, резонно, как теперь понимаю, и в бурном негодовании я бросился вон, верней хотел броситься, но кое-как вышел, шатаясь, и направился в «Кедры», к своей бутылке, которую ласково окрестил Маленький Капрал. На лестнице встретил полковника Бландена, имел с ним небольшую беседу. Точно не знаю о чем.