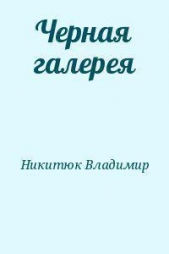Первая жена

Первая жена читать книгу онлайн
«Резать жизнь на куски: детство — первая книга, брак — вторая, великая внебрачная страсть — третья, болезнь ребенка — четвертая, это мне не интересно. Я предпочитаю рассказывать истории, которые увлекают меня далеко отсюда», — говорила Франсуаз Шандернагор после своей третьей книги о Франции XVII века. Но через пять лет она напишет роман о себе, о своем разводе, о своей погибшей любви, о возрождении к жизни.
Роман «Первая жена» принес выпускнице Высшей школы Национальной администрации, члену Государственного Совета Франции славу одной из ведущих писателей страны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С меня заживо содрали кожу, а это значит — между грязью мира и своими ранами я располагаю множество слоев марли: дом в деревне, леса, автоответчики, туманы, «адресат выбыл». Я не выношу никакого шума, кроме неслышного падения снега на воду, когда хлопья падают на нее, подобно ангельским перьям, и исчезают на ее поверхности. Текучая ласка, воздушные поцелуи — союз призрака и облака.
И главное — чтобы никаких слов, только шум тишины.
Послушай я своих советчиков, что бы они могли еще мне сказать такого, чего я бы не знала? Что разводились и до меня? Да, и умирали до меня тоже, тем не менее, когда наступит мой час, я вряд ли буду на высоте… Что я справлюсь, что во мне еще масса энергии? Что до энергии, то мне ее впору продавать и даже пускать с молотка: жизнеспособность — как Прометеева печень, которая все время самовосстанавливается после того, как ее поглодают, — отравленный дар богов тем, чья агония им особенно дорога…
Друзья мои, ни звука! Пожалейте меня. Помолчите. Или слушайте, как я в который раз буду говорить о нем, о нас. Если я все время говорю о нем — это значит, что я говорю о нас.
Я закоченела. Уходя, он заявил: «У меня будет от нее ребенок. Я хочу еще одного ребенка. Я начинаю новую жизнь». В пятьдесят лет все начать с нуля, сесть на новый выводок? Это когда дом-то решаешься с трудом построить! В тот час, когда наступает конец испытаниям, если больше нет времени переписывать, разве стоит заканчивать задание кляксой?
Мне кажется, достойнее продолжать раз начатое, пусть даже ошибочно. Идти прямо для того, чтобы выйти из леса. Но мужчины, обезумев перед финишем, вдруг начинают торопиться и меняют курс, уходя от финишной прямой. Под предлогом того, что они все начинают заново, они отказываются от собственной юности, от самих себя. Бретонец заделывается играть в баскскую петанку, провансалец вдруг начинает питать невыразимую привязанность к пасмурному небу; пьяницы рядятся в благородные плащи, и все дедушки становятся «молодыми папами»… Они не хотят знать своих границ. «То, что я даю Лор, ничего у тебя не отнимает», — повторял мне мой мотылек. Какое прекраснодушие! Идти рядом с кем-то всю жизнь и так нелегко, но сопровождать двоих… Но ведь речь идет не о твоей собственной жизни! Это «свою» жизнь они хотят переделать. Только вряд ли они что-нибудь переделают, разве что будет новый номер телефона и новая мебель. Поменять жену легче, чем научиться иначе говорить: публика меняется, но жесты остаются те же, не меняются и слова — становишься «новым», не дав себе труда обновиться. Молодеешь, не меняя своей сморщенной кожи.
Почему в одном и том же возрасте женщинам и мужчинам так трудно разделить иллюзию, что все можно начать сначала? Только бы не узнать раньше положенного, что слишком поздно…
Я с неохотой вступаю в будущее, я не хочу туда, я пячусь, а не двигаюсь вперед. Я даже и не двигаюсь вовсе: случается по утрам, что мне хочется гнить среди беспорядка и грязи: не снимать халат, не причесываться, не убирать постель, не мыться, покрыться грязью, плесенью, загнить изнутри… Зачем жить? И для кого? У нас не будет общего потомства. Внуки? Даже их не будет — и он, и я будем говорить «мои внуки». И они, эти смуглокожие агнцы с голубыми глазами, «молочно-шафрановые агнцы», никогда не бросятся к «бабушке-дедушке» с белоснежными волосами — двойной любви в одном имени, которые ждут их на ступенях крыльца…
Бывают дни, когда, устав от слишком близких горизонтов, оттого, что из моих окон открывается вид на пасмурное будущее, я решаю убить себя. Подобная перспектива помогает мне жить. Потому что куда мне умирать при избытке жизненных сил… И потом, если я умру, кто сохранит воспоминания? Воспоминания о нем: что знает о его жизни его новая жена? Например, что она знает о его машинах? Я же знала их все: ржавую малолитражку его восемнадцати лет (которая, настоящая могила на колесах, могла ехать только с распахнутой дверцей); его маленький серый «фиат», купленный с рук, стекла в нем запотевали, как будто на них задергивались занавески, когда, везя меня домой с факультета, он никак не мог оторваться от моих губ; потом была белая «симка» (тоже с рук, но ужасающая), которая принималась чихать, как только начинался дождь, — в день нашей свадьбы (дождливый, значит счастливый) эта сопливая «симка», вся в розах и тюле, просто отказалась двигаться с места; чтобы наказать ее, мой молодой муж купил красную «альфу», спортивную модель с рулем из ежевичного дерева, этакую мечту холостяка, которую он упорно сохранял, даже когда нам надо было запихивать на заднее сиденье детей и пуделя; затем появился синий «шестнадцатый рено» — машина чиновника среднего звена, которая была почти в порядке — этакая машина вечно занятого замдиректора, отца троих мальчишек, который прекрасно отдает себе отчет в мере своей ответственности (креслице для малыша, ремни безопасности); наконец, металлизированная «вольво», достаточно вместительная для всех наших чемоданов и коленок четверых мальчиков; эту машину и я, и он так любили, что никак не могли с ней расстаться, она стала настоящим музейным экспонатом, коллекционеры предлагали за нее большие деньги; карьеру свою она закончила бесславно, между двух коров, в какой-то канаве где-то в Лимузене… Из всей этой долгой дороги, которая была проделана за рулем, новой мадам Келли будет известен лишь последний этап — «сафран». «Сафран» господина президента компании.
Что ей известно о его жизни? Ей никогда не узнать, какими были его новорожденные дети, что они лепетали… А словечки, которые нас так забавляли: «я небольшой хитрюга», «где же твоя чековая книга»?.. Ей никогда не воспользоваться ни одним из этих выражений, тех стружек прошлого, ставших семейным фольклором, который пополнялся то ирландским дедушкой, то дедушкиными братьями из Прованса, то теми словечками, что были в ходу у его братишек или сестриц (когда я увидела впервые самую маленькую, ей было шесть лет) во время наших игр: «Я, Барри О’Коннор, тоже сбрасываю с себя все», «Тетушка Эффи придет обедать, она уберется только весной»… Private jokes, такие приватные, что ей их никогда не понять.
Она не росла с ним, не старилась. Как может она заканчивать свою жизнь с человеком, начало жизни которого ей неизвестно?
Иногда (в хорошие дни) я мечтаю о том, что, когда мои старшие сыновья женятся, в Комбрайе, в комнатах молодоженов, я поставлю детскую кроватку или деревенскую эльзасскую колыбельку. И, склоняясь над этим младенцем, спящим под вышитым одеяльцем, я буду вспоминать, как в таких же колыбельках, в таких же кроватках спали наши дети… Но мой муж, который заточил себя с этой своей иностранной женой в собственной квартире в элегантном пятом округе Парижа, не увидит, как его внуки, наши внуки, спят в кроватках, где спали наши дети. Он не узнает и того, что одни будут сменять других в тех же самых местах, в тех же самых руках, он даже не вспомнит… Будущее других проходит теперь только через мою память. Вот почему я не покончу с собой.
Но я окоченела. Я взваливаю на свои плечи воспоминания, собираю вокруг себя все свое прошлое, но согреться мне так и не удается. Собираю, сохраняю, накапливаю, предохраняю, раскладываю по порядку — заготавливаю припасы на зиму…
Я сохранила даже след его голоса, этого нежного, глубокого голоса, — так говорят соблазнители. Голос этот просто врос в мой автоответчик. Здесь, в деревне, нельзя стереть пленку до того, пока ее не прослушаешь. Чаще всего послания, которое записано на автоответчике и отправляет моих абонентов к парижским автоответчикам, хватает для того, чтобы отвадить наиболее настойчивых. Но 2 января прошлого года нашелся какой-то упрямец — лампочка на автоответчике загорелась. Чтобы стереть, мне пришлось включить запись: «Малышка Катти, это я, Франси. Я только хотел узнать, как ты… И кроме того, родная, пожелать тебе хорошего Нового года. С Новым годом, милая». Это был год нашего развода, год, когда по математическим подсчетам (совместные ходатайства, плюс три месяца отсрочки, постановление о невозможности совместной жизни, плюс еще полгода) должен был быть решен в суде наш развод, ему это было известно. И — «с Новым годом»? Я решила, что ослышалась! Я снова прокрутила пленку: «и кроме того, родная, пожелать тебе хорошего Нового года». На этот раз я расхохоталась: с юмором у моего мужа все в порядке! Я расхохоталась, больше слушать не стала, но запись не стерла: это был его голос, голос из «тогдашних времен»; возможно, мне уже не суметь его еще раз услышать («Ты больше не смотришь на меня, Катрин, ты больше меня не слышишь») или тот, который к нему возвращается естественным образом, как только мы оказываемся на расстоянии друг от друга.