Безвозвратно утраченная леворукость
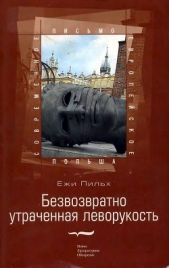
Безвозвратно утраченная леворукость читать книгу онлайн
Ежи Пильх является в Польше безусловным лидером издательских продаж в категории немассовой литературы. Его истинное амплуа — фельетонист, хотя пишет он и прекрасную прозу. Жанры под пером Пильха переплетаются, так что бывает довольно трудно отличить фельетон от прозы и прозу от фельетона.
«Безвозвратно утраченная леворукость» — сборник рассказов-фельетонов. По мнению многих критиков, именно эта книга является лучшей и наиболее репрезентативной для его творчества. Автор вызывает неподдельный восторг у поклонников, поскольку ему удается совмещать ироничную злободневность газетного эссе с филологическим изяществом литературной игры с читателем. Ну а темой его сочинений может стать все что угодно — признание в любви к кошке или формула смелости, инструкция по наведению порядка в домашней библиотеке или откровения на тему футбола.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так я думаю, а скорее, так я считаю. Ведь эти девушки двадцати с небольшим лет, что в середине шестидесятых шли через площадь Коссака, должны были родиться в середине или в начале сороковых. Их матери, которые в середине шестидесятых дали им для укорачивания совершенно приличные юбки, их матери, которые в середине шестидесятых были интенсивными дамами за сорок, родиться должны были в середине или в начале двадцатых. Интересно, в свою очередь, как им это удавалось, эта их интенсивность? Ведь забота о красоте и Владислав Гомулка — две вещи несовместные, ведь мода, женская косметика и средства ухода за телом в эпоху Гомулки — не более чем череда оксюморонов. Но откуда же тогда крем? Откуда губная помада? Откуда тени для век? Откуда шампунь? Откуда ароматическое мыло? Откуда ткань на блузку? Откуда они это брали и как это делали?
Жизнь понарошку, что общеизвестно, это жизнь очень интенсивная, это жизнь, полная неожиданностей, в которой каждую минуту может произойти что-то замечательное. Кто-то может из-за границы протащить контрабандой кусок мыла Palmolive, который потом будет для особого случая храниться на дне шкафа, с неба могут свалиться бабки, за которые в комиссионном приобретется французская помада, дядя из Америки пришлет доллары, и с этими долларами можно пойти в валютный магазин в каком-нибудь большом городе. Кроме того, волосы, например, можно вымыть желтком, пивом, отваром из крапивы, осветлить ромашкой или разбавленной перекисью водорода, можно стародавнее пальтишко из тонкого твида ловко переделать в модное платье, не ношенную с самой, кажется, войны юбку из габардина можно укоротить. Ушивание и в особенности укорачивание значительно выше колена — вещь неотвратимая, но ведь неизвестно, можно ли так ходить? Можно ли в таком коротком хотя бы через площадь Коссака перейти? Или нужно будет моментально возвращаться домой на Филарецкую? Так что поборницы авангардной одежды лезли в чулан и укорачивали довоенные материнские юбки, шили мини из старомодного отцовского пиджака — ткани панама или тропик тридцатых годов не знали сносу.
Мы стояли на площади Коссака, чертовыми мельницами вращались наши мешки для обуви, мы сгибались под тяжестью мудрости, но историософско-гардеробная рефлексия о том, что первые мини-юбки, на которые мы смотрим, сделаны из еще довоенных материалов, не приходила нам в голову.
«Мужчины моего поколения, — рассказывает Беллоу в «Даре Гумбольдта», — так и не смогли привыкнуть к силе, длине и красоте женских ног, в прежние времена совершенно закрытых». Мужчины моего поколения, по-видимому, привыкли к силе, длине и красоте женских ног, закрытых когда-то на непродолжительное время, а потом постоянно открытых. Я, во всяком случае, привык совершенно безболезненно. Не могу, однако же, отвыкнуть от мысли, что первая открывающая женские ноги мини-юбка, какую я в жизни увидел, была сшита из досентябрьских тканей [55]. Мысль эта не навязчивая (навязчиво я думаю кое о чем другом), но достаточно явственная.
«Мир этому дому»
Глаукома разъедала глаза, опасно увеличивалось внутриглазное давление, уменьшалось поле зрения, диабет точил крепкое тело пана Начальника, ранки не хотели затягиваться, ухудшалась свертываемость крови, сосуды становились хрупкими, начался склероз, после инсульта дед был наполовину парализован. Казалось, это уже конец, но он пришел в себя, вернулся в нормальную форму, хотя это была нормальная форма человека, погруженного в непроглядную тьму: еще задолго до кровоизлияния он был уже совершенно слеп.
Центр здоровья в Висле, частный кабинет в Устроне, больница в Заводе, больница в Чешине, больница в Кракове, неправдоподобные количества инсулина, тонны всевозможных таблеток, цистерны глазных капель, операция, уколы, но что хуже всего — диета.
Дедушка Чиж был человеком добрым, я, кажется, вообще не припоминаю его гнева, он был человеком большой души и переносил превратности судьбы с внутренним спокойствием. И в точности, как это сказано в Писании, делал он добро и зло добром побеждал. Когда все без малого его проекты по улучшению жизни шли насмарку, когда все причудливые инициативы заканчивались провалом, он сохранял спокойствие и безмятежность. Когда еще учеником Чешинской гимназии он без памяти влюбился в Марысю Хмелювну, которая ходила к сестрам-боромеушкам на курсы кройки, шитья и кулинарного искусства, он стойко переносил любовные муки.
В гимназии польскому языку дедушку учил Пшибось [56], учеников было без малого тридцать, почти одни мужчины, только две гимназистки ходили в тот же класс, что и дедушка: Анна Бобкувна и Мажена Скотницувна. Скотницувну дедушка помнил прекрасно, она, похоже, была необыкновенно хороша, а кроме того, ее невозможно было забыть из-за трагедии: незадолго до окончания гимназии она погибла при восхождении на гору Замарла Турня. Когда почти через полвека я говорил дедушке, что Юлиан Пшибось о ней и ее смерти написал стихотворение под названием «Из Татр», что это очень известное стихотворение, что его печатают в школьных учебниках и что на примере этого стихотворения новые поколения выпускников постигают тайны авангардной поэзии, когда я пытался донести до сознания дедушки, насколько сенсационно близко (на расстоянии вытянутой руки от сидящей прямо перед ним Мажены С.) к важным эпизодам современной литературы он находился, дедушка сохранял глубочайший скептицизм. Видимо, Пшибось как полонист не пользовался особым уважением, о том, что он поэт, тоже, скорее всего, известно не было, и писательским наследием своего былого учителя дедушка совсем не интересовался. Не исключено, что в каком-нибудь графоманском порыве я захотел прочитать ему стихотворение, посвященное Скотницувне, но вовремя опомнился. Хотя я был тогда молодым поэтом, готовым ломать все традиции и нарушать табу, но какую-никакую дисциплину, видно, имел, потому что более или менее сознательно должен был отдавать себе отчет, что чтение поэзии Пшибося человеку, судьбою крепко битому, — грубая бестактность. Достаточно того, что я сверх меры допытывался об этом ведущем представителе Краковского Авангарда [57], дедушка пытался от меня отделаться, иронично отмахивался и в конце концов процедил: «Напыщенный карлик», после чего разразился добродушным смехом, будто смехом хотел нивелировать едкую меткость фразы.
Темный зал математико-естествоведческого отделения, гимназисты поглядывают в сторону красивой однокашницы, сегодня она надела блузку тревожащего цвета шалфея, уж очень в ней прелестно однокашница выглядела, через пару недель под ее стопами должна была разверзнуться бездна, под их стопами, впрочем, тоже постепенно разверзались другие пропасти. Сидящий у окна Хлавичка, например, сдаст на аттестат зрелости, окончит учебу, пойдет на войну и выстрелом в затылок будет убит в лесу под Катынью, так же и Пробст, Радлинский станет министром химии в правительстве Гомулки, Кноппек солдатом немецкой армии погибнет на восточном фронте. Чиж станет после войны начальником почты… Можно перечислять фамилию за фамилией, без малого тридцать биографий двадцатого века, один выпускной класс, Чешинская гимназия, точно белый камешек, лежащий у подножия Карпат. Они пока еще вместе, их стопы еще касаются пола, вычищенного школьным сторожем Харатиком, напыщенный Авангардист снует среди них, и хотя он вообще-то мог бы что-то сказать, сказать ему нечего, никого он не заражает любовью к поэзии.
Дедушка влюблен в Марысю Хмелювну, и даже в голову ему не приходит, что можно ей написать стихотворение или какое-то уже написанное кем-то другим просто переписать, выслать почтой, вписать ей в альбом. Любовь дедушки так сильна, что обходится без литературы. Любовь дедушки, должно быть, сильна и постоянна, потому что, когда Марыся выходит замуж за преуспевающего вислинского мясника, эмоциональная жизнь дедушки не претерпевает никаких метаморфоз, возможно, любовь, окрашенная трагизмом, становится еще сильнее, трагизм помогает выживанию. Да что там говорить! Любовь его была чудовищна, страшна, сильна, постоянна и безосновательна, вера же его была крепка, как камень на Рувнице; и горячие молитвы, чтобы зажиточный мясник из центра Вислы как можно скорее познал вечное блаженство райской жизни, были выслушаны, через неполных два года после женитьбы мясник — видно так ему было суждено — разбился на мотоцикле.


![Солнце входит в знак Близнецов [Страницы альбома]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)






















