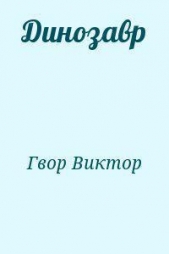Гномы к нам на помощь не придут
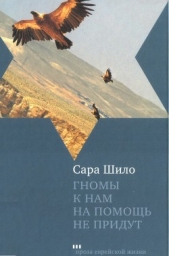
Гномы к нам на помощь не придут читать книгу онлайн
Израильская писательница Сара Шило до недавнего времени была известна исключительно как автор книг для детей. Но первое же ее «взрослое» произведение, роман «Гномы к нам на помощь не придут», получило очень высокую оценку критиков и читателей и удостоилось престижной литературной премии Сапира. Действие романа разворачивается в приграничном городке на севере Израиля, жители которого подвергаются постоянным обстрелам. В центре драматического повествования — жизнь многодетной семьи, потерявшей кормильца. Каждый из членов семьи пытается по-своему справиться со своим горем, и автор удивительно точно воспроизводит их внутренний мир через полифоничность и своеобразие языка каждого героя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сегодня с внутренней почтой должны прибыть складские документы: бланк номер триста двадцать восемь — для оформления заказов из отделов и бланк четыреста двенадцать — для оформления выдачи товаров со склада. Господи, сколько я сил положил, чтобы на эту должность устроиться! И что же меня подвело? Да подпись моя, вот что. Нет у меня еще пока такой подписи, за которую меня на заводе могли бы уважать.
Если к нам на завод придет даже самый умный в мире человек, и если он будет ходить по нашему заводу целый день, и если вы потом его спросите: «Ну? Кто тут после Тальмона главный?» — он наверняка скажет: «Начальники отделов, бригадиры, заведующий отделом кадров» — или что-нибудь в этом роде. И будет не прав! Или вот, например, если вы его спросите: «А скажи-ка, кто здесь все решает? Начиная с мелочей вроде кнопок для доски объявлений и кончая кадровыми вопросами? Кто здесь определяет, кого на работу принимать, а кого нет, кого увольнять, а кого оставлять, кому увеличивать зарплату, а кому не увеличивать?» Он в мою сторону даже и не посмотрит. Даже если я сам ему скажу, что это я, он в ответ только улыбнется. Короче говоря, мне в этом смысле опасаться нечего. Я могу ходить по заводу совершенно спокойно, потому что знаю: никто тут ни о чем не догадывается.
Первые полгода я был для них никто. Так, парнишка какой-то, которого приняли на работу вместо «бедняжки Розетт». Меня даже и по имени-то никто не называл. А мой станок называли «чудовищем». И никто не хотел на нем работать. Как только мы в цех придем — а смена у нас в десять вечера начиналась, — девчата, одна за другой, к нему подходят и плюют на него. Плюнут — и расходятся по своим местам, а я потом возле него стою и на их слюну любуюсь — как она по нему стекает. Мне очень хотелось попросить их, чтобы они больше этого не делали, но у меня не хватало храбрости. Хотя, по правде говоря, даже и без этой их слюны работать там было противно, потому что никто даже и не пытался сделать цех уютным. Но все равно, когда я собирался по вечерам на работу, я всегда одевался так, как будто иду на какое-нибудь торжественное мероприятие. Потому что в такой одежде я чувствовал, что не останусь там навечно, что мне удастся когда-нибудь сделать карьеру, что я не буду двадцать или тридцать лет стоять на самой низкой ступеньке социальной лестницы. Ведь, как всем хорошо известно, человека встречают по одежке. Так что если будешь одеваться в грязную, провонявшую подгоревшим маслом одежду, то и кончишь соответственно.
Беда только в том, что от этих бесконечных ночных смен у меня начала болеть спина и мне стало трудно стоять прямо. Однако попросить, чтобы меня перевели на сидячую работу, я не решался: боялся, что выгонят. Мне ведь все и так постоянно говорили: «А, это ты, что ли, вместо Розетт работаешь?» И смотрели на меня так, будто это я виноват, что она ударилась головой.
Уже в самый первый день работы на заводе я узнал, что, когда пластмассовая оболочка провода рвется, подача электричества сразу прекращается и станок останавливается. Станкам ведь все равно. Плевать им на то, что из-за них вся жизнь человека может под откос пойти.
Розетт работала за моим станком. Дело было в полчетвертого утра. Полчетвертого утра — это такое время, когда уже начинаешь сходить с ума. Потому что тебе кажется, что смена никогда не кончится. За какие-нибудь полминуты ты успеваешь взглянуть на часы раз десять. Сначала посмотришь на часы, потом на окошки в потолке — а вдруг уже светать начинает? — потом снова на часы, и так по многу раз. Но рассвет все никак не наступает, а стрелка на часах как будто застыла. Так что тебе начинает казаться, что время остановилось и что Бог ушел спать, забыв сказать Своему помощнику, чтобы тот перевел стрелку.
Если бы, например, кто-нибудь пришел к нам в цех часа эдак в два или три и предложил бы нам подписать бумагу, что мы согласны проспать целый год без перерыва, мы бы, наверное, к нему сразу в очередь выстроились. Только чтобы расписаться. Но вот в полчетвертого… В полчетвертого — после того, что произошло с Розетт, — у нас в цеху никто уже спать не мог. Как только это время приближалось, воздух в цеху как будто наэлектризовывался, все моментально просыпались и поворачивали головы в мою сторону. Как будто каждую ночь устраивали по Розетт поминки. Хотя она и не умерла.
Как и все в этот час, я тоже стоял и думал про Розетт, и мне в голову лезли тысячи разных мыслей. Мне хотелось прекратить этот проклятый грохот станков. Хотелось взять топор и изрубить их к чертовой матери на куски.
Это случилось в четверг. Розетт стояла на том же самом месте, где потом стоял и я, и подталкивала руками бегущий провод. Все говорили, что руки у нее были замечательные — сразу чувствовали, где провод слишком тонкий, а где он, наоборот, толще нормы на четверть миллиметра, — и, видимо, в какой-то момент она тоже взглянула на окошки в потолке, чтобы проверить, не начинается ли рассвет. Но тут ее длинные волосы зацепились за шестеренку и их стало затягивать внутрь. Как будто они тоже провода. А станок — он за пять секунд протаскивает тридцать сантиметров; и если в него попадает какой-то предмет, то прежде чем вылезти с другой стороны, он проходит через мясорубку шестеренок. Станку ведь все равно, что жрать — провода или волосы. В общем, тащил он ее так за волосы тащил — и в конце концов она ударилась об него головой.
Когда во время перерыва мы шли пить кофе, в разговорах снова и снова всплывала одна и та же тема: почему никто не подбежал и не выключил станок? И каждый раз, как об этом заходила речь, все начинали возмущаться:
— Вот если бы нас не заставляли стоять друг к другу спинами, как каких-то роботов, так что мы даже не можем поглядеть друг другу в глаза, кто-нибудь ее обязательно бы да увидел. А так? Разве в этом грохоте что-нибудь услышишь?
Правда, четыре человека, стоявшие от нее справа и слева, сразу же к ней бросились, но они были далеко. Пять секунд — это слишком мало. Что можно сделать за пять секунд? Слишком мало это, пять секунд.
Однако постепенно страсти вокруг истории с Розетт улеглись и жизнь на заводе вернулась в прежнее русло. В перерывах люди снова стали шутить и устраивать друг другу розыгрыши. Один раз, например, подсоединили к «бераду» [36] электрический провод от станка, и, когда кто-нибудь наливал себе чай, его било током. Несильно, конечно: ток был слабый. И кассету эту свою — с песней «Цветок в моем саду» — тоже снова слушать начали. По сто раз в день. Дослушают, перемотают, и опять включают. А через какое-то время я заметил, что они перестали обращать внимание на технику безопасности. Уже через полчаса после начала работы многие стали снимать с себя защитные очки и наушники. Потому что в цеху было слишком жарко. Только волосы еще подбирать продолжали. Без этого на заводе никак.
Одним словом, про историю с Розетт стали понемногу забывать. Правда, когда кто-нибудь из наших ее навещал, а потом приходил и рассказывал что да как, про эту историю снова начинали судачить. Однако «поминок» в полчетвертого утра больше уже никто не устраивал; с этим было покончено.
Да и станок они мой в конечном счете тоже простили. И не просто простили. Оказалось, что он даже считается у нас в цеху самым лучшим и за него началась конкуренция. Все теперь старались пробить карточку пораньше, чтобы занять его первым.
Подвозка высаживала меня у дома в четверть седьмого, и мама к этому времени уже давно была на ногах. Она давала мне стакан чаю, и я замертво падал на кровать, которая еще сохраняла ее тепло и запах, причем этот запах был уже не таким кислым, как когда она еще кормила близнецов грудью. Я ложился на ее сторону кровати и спал часов до трех-четырех, а ночью снова шел на работу. И так каждый день на протяжении десяти месяцев. Пока на заводе не появился Тальмон.
Сегодня на заводе уже нет никого, кто бы меня не знал. И нет ни одного человека, который бы не приходил ко мне излить душу. Вообще-то даже когда я был еще ребенком, люди уже тогда мне все рассказывали. Сам не знаю почему. Я вот, например, о своей жизни никогда никому не рассказываю. Но зато я умею хранить в тайне то, что доверяют мне другие. Не то что некоторые, которые посплетничать любят.