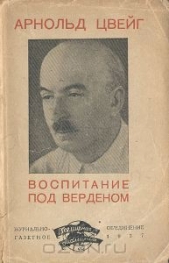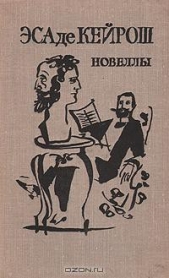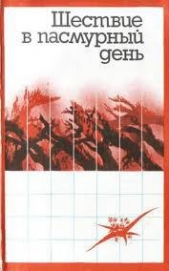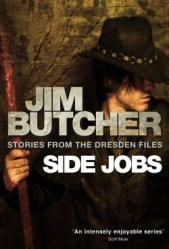Радуга (сборник)

Радуга (сборник) читать книгу онлайн
Большинство читателей знает Арнольда Цвейга прежде всего как автора цикла антиимпериалистических романов о первой мировой войне и не исключена возможность, что после этих романов новеллы выдающегося немецкого художника-реалиста иному читателю могут показаться несколько неожиданными, не связанными с основной линией его творчества.
Лишь немногие из этих новелл повествуют о закалке сердец и прозрении умов в огненном аду сражений, о страшном и в то же время просветляющем опыте несправедливой империалистической войны. Есть у А. Цвейга и исторические новеллы, действие которых происходит в XVII–XIX веках. Значительное же большинство рассказов посвящено совсем другим, «мирным» темам; это рассказы о страданиях маленьких людей в жестоком мире собственнических отношений, об унижающей их нравственное достоинство власти материальной необходимости, о лучшем, что есть в человеке, — честности и бескорыстии, благородном стремлении к свободе, самоотверженной дружбе и любви, — вступающем в столкновение с эгоистической моралью общества, основанного на погоне за наживой…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Судья действительно находился в состоянии такого душевного напряжения, долго выносить которое человеку не дано. Он не смог помешать войне проникнуть в свой дом, он понял, сколь детски наивным было его сопротивление, и, тщетно используя хитрость безумия, уже завладевшего им, он тут же решил использовать другой путь: покориться для видимости, чтобы, наблюдая за демоном на всех стадиях его нарастающей власти и отмечая решительно все ее проявления, поразить это чудовище из засады невидимыми стрелами своего духа и самосознания и, в ответ на каждый акт бесцельного разрушения, глумясь, издеваясь, опираясь на ненависть, твердую, как скала, уличить этого проклятого демона в бессмысленности его неистовства. Так Гельбрет решил превратиться в зеркало, чтобы молча и с убийственным укором показывать чудовищу его отвратительный образ, до тех пор пока демон в минуту отрезвления не рухнет, раздавленный сознанием своей собственной невозможности. Да, Гельбрет давно жил в другой, отнюдь не гражданской сфере. Война стала для него уже чем-то реальным, более того, она стала для него живым одушевленным существом. Она представлялась ему бесформенным, гигантским, невидимо присутствующим и вездесущим демоном вражды, порожденным изменением в мировом эфире, и он сам, Гельбрет, обречен был жить в его тени. Это было злое божество, радующееся всякому акту уничтожения и все же — ибо Гельбрет в своем безумии не мог представить себе одушевленное существо лишенным совести — обладающее достаточным разумом и чувством стыда, чтобы в момент усталости — на это он, Гельбрет, и рассчитывал — осознав свое кошмарное уродство, лопнуть от ярости. Но для этого он, Гельбрет, должен и качестве рефлектора неустанно воспроизводить образ демона и, находясь в курсе всех событий, постоянно обращать к войне гладкую, ярко освещенную отражательную поверхность своего духа, самому же сохранять в глубине души насмешливое и решительное отрицание всего, чему он позволил приблизиться к себе вплотную. Смотреть, как в мир, как в жизнь людей вторгается звериное начало, напрячься, затем расслабиться, мучительно вытянуться, расшириться, изогнуться и предоставить в распоряжение демона свой налитый кровью мозг, бодрствующий, трижды бодрствующий, втиснутый в колодку, вернее в кольцо, которое, точно припаянное, сдавливало голову Гельбрету, — вот это и означало для него быть зеркалом. Жить, по возможности, не ощущая себя, не позволять собственным импульсам разрушать фронт борьбы и терпеливо ждать, пропуская через себя все явления войны, какие бы страдания это ни причиняло, — вот в чем видел он свой долг, вот на что он решился. Ответственность была столь же огромна, как и сама задача; ибо что же будет управлять жизнью, если война сама себя уничтожит и распадется на атомы или ионы? Мир — возлюбленный земли, солнце зеленых полей; голос его — пение птиц, шелест зеленых ветвей; цветистый луг — одежда его; игрушка — журчащий ручей; словно времена года, сменяет он отдых и труд; закон и право — ложе — его. Мир — элевсенский бог с венцом равенства и братства на развевающихся власах; мир, облеченный в одежды осени, благосклонной к народам и богатой плодами! И он, Гельбрет — судья, поведет мир навстречу радостно улыбающейся жизни, навстречу невесте, которая сейчас, подобно вдове в разодранных одеждах, сидит на развалинах года тысяча девятьсот четырнадцатого от рождения Христова. Он, называвший себя сейчас Гельбретом-Миротворцем, ширился и выгибался наподобие кривого зеркала, пока наконец его неусыпно бодрствующая душа не ринулась в бой с ревущим демоном войны.
Превратив всего себя в блестящую поверхность, отражающую войну, он уже не отказывался, как прежде, от газет, напротив, он жадно глотал каждую строчку, воспринимая, однако, прочитанное иначе, чем его современники; он читал газеты не как немец или представитель какой-либо другой национальности, а как ответственное лицо, гражданин вселенной, чувствующий за собой одобрение великой эпохи взлета, когда немецкие поэты-классики и философы по-добрососедски делали одно общее дело с пламенными вождями Французской революции, с Бетховеном и с Бонапартом. Поднявшись над всеми земными связями, не стесненный более узами крови и не ограниченный необходимостью личного суждения, он стремился стать лишь эхом зла, превратиться в существо, подобное лесным духам и троллям, молчаливым, мудрым фавнам, неподвижным силенам, заключенным в телесную оболочку почти по доброй воле, по собственному согласию, а не держаться за эту оболочку с закоренелым упрямством рожденного женщиной смертного человека. Вот почему с мрачным торжеством встречал Гельбрет весть о каждой беде; вот почему каждое нарушение международного права, хотя оно и отзывалось щемящей болью в его сердце, он приветствовал как верный признак того, что бешеное животное в скором времени наконец-то устанет, выбьется из сил. Ах, если бы можно было с помощью проклятья или магического жертвоприношения, угрозы или заклинания, электрических волн или телепатического внушения сбросить на него свою собственную усталость!
Стоило Гельбрету лечь, и он немедленно погружался в сон, глубокий, как смерть, в бегущую от действительности, обращенную в себя и на себя невротическую летаргию школьника, которому страшно идти в школу, или солдата, стремящегося вычеркнуть из сознания завтрашний день.
Гельбрету было тем труднее сохранять бодрствующее состояние, что из глубин больного духа вместе с выделениями желез и с кровью в мозг его уже начинали проникать выделения, которые, будучи рождены болезнью, усугубляли эту болезнь, подобно тому как у ребенка боль и слезы взаимно усиливают друг друга. По случаю каникул суд был закрыт, и Гельбрет совсем перестал покидать свою комнату. Когда он в последний раз проходил по своей квартире, он невольно заметил, что и в ней война вызвала опасные и враждебные хозяину перемены. Устилавшие пол ковры пламенели яркими неверными красками; в особенности бросались в глаза коварные красные и синие пятна, которые создавали угрожающие контрасты, прямо-таки расслаиваясь на глазах, точно они, подобно маслу и воде, представляли собой совершенно разнородные вещества, так что шагать по ним было опасно, тем более, что они, хотя и враждуя друг с другом, но объединившись против судьи, грозно залегли рядом. Невероятно твердые, словно отточенные, грани темно-коричневых шкафов врезались в отступающий под их давлением воздух. Зловещие блики мелькали на медных ручках дверей, которые жалобно скрипели или бесшумно закрывались за ним, как безвозвратно прожитые дни; даже в занавесях гнездилось что-то таинственное, серое, возбуждавшее в нем чувство ужаса, а декоративные тарелки на подставках вызывали мучительное чувство раскаяния и стыда. Гельбрет решил укрыться в своих двух комнатах, где для него все было привычным и на пороге которых пентаграмма «Сопротивление» закрывала доступ войне. Жена, мстя ему за постоянное невнимание и свое оскорбленное достоинство — на этот раз она была безусловно права — и к тому же поглощенная общественными делами, ждала первого шага со стороны раскаявшегося супруга, а покамест полностью игнорировала его присутствие; поэтому комнаты Гельбрета вскоре приняли неряшливый вид, мебель покрылась толстым слоем пыли, воздух пропитался вонючим холодным табачным дымом. Но Гельбрет ничего не замечал, как не замечал он и того, что ходит в грязном костюме и нечищенной обуви, непричесанный, опустившийся, питаясь теми блюдами, которые, по своему усмотрению и обычно уже остывшие, подавала ему кухарка; нерадивость прислуги и удовольствие, испытываемое ею при виде унижения хозяина, которого она некогда так боялась, вызывались патриотическими чувствами. Скандал, разыгравшийся в свое время между судьей и его женой, конечно, не был забыт, и сочувствие прислуги было на стороне оскорбленной хозяйки, тем более что та управляла своим домом спустя рукава. Охваченный страшным нервным напряжением, Гельбрет бродил по комнатам, ощущая озноб одиночества.
Значит, он и этот народ, чье духовное богатство, как воздух и хлеб насущный, создало и взрастило его, Гельбрета, жили как бы в двух совершенно различных плоскостях: он, Гельбрет, высоко вознесен над народом, который, пыжась от гордости своими победами и пьянея от власти, дал себя увлечь безумной иллюзии. Однако трезвое око Гельбрета видело все насквозь: безумная иллюзия, приукрашенная мишурой веселых сердечных чувств и якобы новой общности, была уже одета в траур. И у Гельбрета, смотревшего через окно на улицу, вырвался стон… Сквозь оконное стекло, сквозь кирпичи стен он ощущал отчужденности, возникшую между ним, живущим в уединении, и всеми остальными людьми. Он знал, что проклят будет тот, кто отойдет от братьев своих, и что все они скажут: «Аминь!» Проклят не по справедливости, но по праву. Мышление всех остальных текло единым потоком; спаянные в единое сверхсущество, сливаясь с ним безраздельно, они были одержимы единой страстью: бороться, опередить, одолеть, сожрать, проглотить, распространиться. Право и закон, договоры и уважение к ближнему, боязнь переступить чужие границы и признание за другим права на существование — все светлое и с таким трудом добытое, отвоеванное человеком у того, у первобытного существа, каким он некогда был, все вечное, но всегда и во всех своих воплощениях хрупкое, было уничтожено, лежало во прахе, обреченное на гибель, захлестнутое новой волной упрямого первобытного инстинкта. Добро не исчезнет совсем — эта уверенность, подобно небесному куполу, высилась над душой Гельбрета, когда он, судорожно сцепив за спиной руки, коченея от холода и одиночества, смотрел вниз на улицу, но чем же могло ему это помочь? Для него это не было утешением. Вселенная, бесспорно, обладала каким-то смыслом с того времени, когда была изначальной туманностью, и до тоге дня, когда она стала плотным земным шаром, опоясанным металлическими обручами железных дорог; и точно так же бесспорно существовали право и закон — в отношениях между народами, между этими большими животными. Но его народ, его подобия, столь дорогие его сердцу, все, кто обычно мыслил, как он, кто высказывался, как он, кто сгорал от стыда, как он, кто возмущался, как возмутился бы он, — эти люди, трудолюбивые, стойкие и рассудительные, исключили себя из числа тех, кто стремился облагородить свое примитивное природное начало, и тем самым потеряли свое человеческое достоинство. С этой минуты его народ оказался во власти диких инстинктов. Гельбрет знал из истории преступлений об ужасающем падении нравов и о том, что после каждой войны поток чудовищных злодеяний затопляет страны, в которых до того процветала нравственность. Его мучило опасение, что время, когда генералы решают, что справедливо, нравственно и достойно похвалы, продлится несколько десятилетий, может быть, пять, может быть, десять; ему представлялось, что войне вообще не будет конца, что народы потеряют свой облик и армия будет мять и формировать их, подобно глине, и обжигать в своем горниле, и он на весь день завесил платком маску Гёте, так властно и пронзительно смотревшую на него со стены.