Дондог
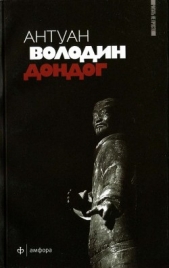
Дондог читать книгу онлайн
Антуан Володин — так подписывает свои романы известный французский писатель, который не очень-то склонен раскрывать свой псевдоним. В его своеобразной, относимой автором к «постэкзотизму» прозе много перекличек с ранней советской литературой, и в частности с романами Андрея Платонова. Фантасмагорический роман «Дондог» относится к лучшим произведениям писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь он весь, до самого нутра проникся носовым пением. Он обращался к Даме Света. Просил ее соблаговолить проснуться и быть так любезной разрешиться днем.
Снова пнул землю пяткой.
Шаманил он веско, избегая лишних жестов. Сквозь ресницы приглядывал за небом и, поскольку оно теперь претерпевало изменения, завел немного другой, более действенный гимн. Теперь он гукал трифтонгами, соединяя их плавными ретрофлексиями. Потом смолк.
В уже бездонном серо-голубом небе растворялись звезды. Вокруг тусклого под тончайшей пленкой пруда начинали щебетать птицы. Полагаю, степные каменки, но при такой высоте над уровнем моря не могу дать руку на отсечение, говорит Дондог. Из конюшен просочились жалобные стоны, разнеслось ржание. Внутри одной из юрт опрокинулся и упал железный умывальник, и через секунду донеслась жуткая брань Бабки Удвал, четвертый век прозябания которой был почат отнюдь не вчера.
День все еще трепетал.
— Мог бы забрезжить и пораньше, — сказал Узбег, покачав головой.
Теперь, когда главное осталось позади, он расслабился. Было слышно, как он вздыхает, прогоняет воздух через разные отверстия.
Он опустил руки по швам и начал копаться в одном из карманов, желая выудить оттуда предмет, который никак не мог обнаружить, — наверное, пачку сигарет, или список поручений, которые на предстоящем собрании надлежало распределить между народными комиссарами, или кусок плотного и серого ячьего сыра, каковой настоятельно требовали сгрызть желудочные колики, или, быть может, молитву Семнадцати Великим Черным Небесам, он сложил ее ночью и еще не успел выучить наизусть.
Обнаружившийся наконец с рассветом пейзаж не отличался живописностью: гладкие холмы, желтоватые, местами грязно-коричневые складки местности, бесцветные луга, словно усеянные лужицами ртути. На западе землю затеняла затемненная еще остатками ночных туч бахрома. То была тайга, первые шеренги лиственниц. Там начинался бескрайний лес, дабы тянуться и тянуться на тысячи километров, вплоть до лагерных ограждений, вплоть до той непотребной пародии, которой оказалась подменена мировая революция.
В этом направлении шла едва заметная дорога, пустынная двенадцать месяцев в году. Однако Узбег, случайно пробежав по ней глазами, внезапно заметил нечто вроде крохотной черточки, человека, которого расстояние низвело до вертикальной черной блестки на изображении — иначе говоря, до нуля.
— Что это может быть? — не мог понять президент Узбег.
Его тонкие веки сблизились. Чтобы увидеть как можно лучше, он представил себя парящей там, над тайгой, хищной птицей с орлиным взором, но расстояние было огромно. До его сетчатки не доходило ничего поддающегося истолкованию. Только через несколько часов путник станет хоть на что-нибудь похож.
— Когда доберется до Троемордвия, посмотрим, что с ним делать, — сказал Узбег.
Кругом понемногу распространялся запах горящего в печах навоза. Вокруг юрт закопошились животные, спутанные, или в своих загонах, или в совхозных стойлах. Вне круга шатров слонялось несколько верблюдов. Одетые в двадцать раз латанное-перелатанное тряпье, туда-сюда сновали трое народных комиссаров, перенося ведра или разговаривая с животными, то и дело по-братски похлопывая их по спине. У входа в свою юрту уже восседала на скамеечке Бабка Удвал. Убеленная сединами и словно затерявшаяся в чересчур просторной для нее хламиде, она курила свою первую за день трубку и наблюдала, как пробуждается Троемордвие.
Узбег подошел с ней поздороваться, выслушал рассказ о приснившемся сне, а также новый набор идеологических аргументов, который она продумала за ночь для борьбы с социал-демократией, потом зашел в пристроенную к конюшне хибару и помочился через решетку на Гюльмюза Корсакова. Тот тем временем отряхивался, поскольку Габриэла Бруна, как всегда поутру, только что вывернула на него мусорное ведро.
— Вот видишь, — сказал Тохтага Узбег. — Я же сказал, что вернусь.
Он застегнул ширинку и затем, как будто Гюльмюз Корсаков высказал морально-этические возражения по поводу обращения, которому он подвергался, как будто Гюльмюз Корсаков снова пожаловался, что ему не дают умереть спокойно, прочистил горло.
— Знаю, Корсаков, — сказал он. — Личная месть, если сравнить ее с местью коллективной, лишена всякого смысла, а ты, ты и вовсе не из главных виновников бедствия. Но так уж сложилось. Это твоя судьба.
Во дворе к нему подошла Габриэла Бруна. На плечах у нее была расшитая красными цветами шуба, старая шуба, которую много лет назад, когда она только прибыла в Троемордвие, ей выделил Народный комиссариат по снабжению.
— Мне приснился отвратительный сон, — сказала она.
— Не стоит держать его в голове, — тут же посоветовал Узбег. — Расскажи.
— Это было с моими внуками — или детьми, не знаю, — сказала она. — С малышами. Бедные мои малыши. Они пытались ускользнуть от второго уничтожения уйбуров. Ты понимаешь? Все было так, как при втором уничтожении.
Она рассказала ему свой сон. Они оба стояли на ветру и морозе, закутавшись в свои грязные одежды, которые она неделя за неделей вышивала и подшивала войлоком и собачьими шкурами. Узбег смотрел на нее с нежностью и спрашивал себя, как донести до нее, что этот сон был на сто процентов провидческим.
— Я не могу и дальше жить здесь, вершить революцию, ни о чем не заботясь, от всего вдалеке, когда в реальном мире готовится второе уничтожение уйбуров, — сказала Габриэла Бруна. — Мне нужно вернуться туда, к своим.
Тохтага Узбег привлек ее к себе, крепко прижал к груди.
— Если ты покинешь Троемордвие, — сказал он, — тебе придется протрубить по меньшей мере пятнадцать лет в лагерях, прежде чем ты вновь окажешься в реальности, среди простых смертных.
— Реальность — это лагеря, — сказала Габриэла Бруна. — Теперь повсюду только они. Реальность — это заключенные, это таркаши, с севера и до юга. Я не вижу никакой связи с простыми смертными. Ты видишь там, в реальности, простых смертных?
— Их так зовут, — сказал Узбег.
Он как мог утешал ее. На протяжении своей жизни и после он любил нескольких женщин, а во сне узнал Джесси Лоо, но он знал, что никогда не утешится, потеряв Габриэлу Бруну, и что ностальгия по ней станет разрушительной, неотвязной, изнуряющей — вплоть до самого конца.
Они вернулись в дом. Тохтага Узбег погладил Габриэлу Бруну по голове, нежно обнял, потом принялся сбивать чай с маслом и солью.
— И все-таки не могу поверить, что революция, пусть и вконец выродившаяся, не предотвратит вторую резню уйбуров, — сказал он.
— Революция? — взорвалась Габриэла Бруна. — Где ты видишь революцию?
Узбег надул губы и ничего не ответил. Теперь они маленькими глотками пили кипящую жидкость. Обжигали губы, язык.
— Сегодня в Троемордвие явится какой-то бродяга, — сообщил Узбег. — Он выбрался из тайги перед самым рассветом.
— К счастью, есть, по крайней мере, лагеря, — сказала Габриэла Бруна.
Она не слышала, что он сказал. Она вслушивалась только в свои собственные навязчивые мысли.
— Стоит научиться в них выживать, — продолжала она, — и можно обосноваться там надолго. Там не так опасно, как снаружи.
— Не идеализируй лагеря, — сказал Узбег. — Лагеря — это для таркашей и мертвецов.
— Значит, для нас, — сказала Габриэла Бруна.
Позднее при входе во двор объявился путник. Бабка Удвал обматерила его, когда он прошел мимо, не поздоровавшись, но он не обратил на это никакого внимания. Это был красноармеец в плачевном состоянии, явно прошедший через многочисленные испытания. Перед тем как проникнуть на территорию Троемордвия, он попытался счистить с себя грязь и даже пришить рукава своей форменной шинели, он засунул пистолет за истертую кожу портупеи, чтобы засвидетельствовать свою принадлежность к нерушимой власти, но в общем и целом при чарующем дневном свете ничем не напоминал о пославших его в такую даль учреждениях и органах.
























