Праздник побежденных: Роман. Рассказы
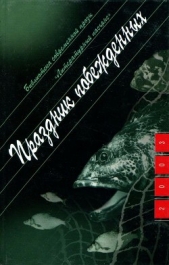
Праздник побежденных: Роман. Рассказы читать книгу онлайн
У романа «Праздник побежденных» трудная судьба. В годы застоя он был объявлен вне закона и изъят. Имя Цытовича «прогремело» внезапно, когда журнал «Апрель», орган Союза писателей России, выдвинул его роман на соискание престижной литературной премии «Букер-дебют» и он вошел в лучшую десятку номинантов. Сюжет романа сложен и многослоен, и повествование развивается в двух планах — прошедшем и настоящем, которые переплетаются в сознании и воспоминаниях героя, бывшего военного летчика и зэка, а теперь работяги и писателя. Это роман о войне, о трудном пути героя к Богу, к Любви, к самому себе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вспомнил Феликс, как во дворе в тот день появился старичок с козлиной бородкой и звенящими цепями на босых ногах. Несмотря на жару, он был в грубошерстном армяке, и Феликс сразу узнал его. Это его много лет назад он принял за Бога, это он поил Феликса красной водицей. Феликс лежал тогда на подоконнике, болтал ногами, смотрел, как старик распахнул армяк и, сняв со впалой груди деревянный, затертый до блеска крест, воздел его к небу, зашептал, глядя в их окно: «Гореть вам в геенне огненной!» — доносилось до Феликса вместе со звоном цепей. Бабушка упала на колени и с плачем поползла к окну. Феликсу же не было страшно, он смеялся в лицо старику и его деревянному кресту.
— Что ж, церковь нужнее самолетов? — злился тогда на бабушку Феликс, злился и на то, что ходил с нею в церковь. Презирал старика за то, что пил красную водицу из его рук. А вдруг узнают в комсомоле? Не примут, пугался он. Сидя над обрывом, он будто сейчас слышал слабый, утихающий голос старика:
— Будь проклят ты и племя твое, зачатое в грехе…
Феликс помнил и глаза старика, слезящиеся, с невыразимым человеческим страданием. И если бы Феликсу, члену МОПРА, осоавиахимовцу, сказали тогда, что этот седой как лунь, проклинающий его старик пройдет через всю его жизнь, и в самые тягчайшие минуты он, Феликс, будет слышать его и видеть, он рассмеялся бы до слез.
Тогда он тоже хохотал, лежа на подоконнике, и науськивал пса.
— Послушай, Феликс, послушай, — пробасил отец. — Будущему комсомольцу это полезно.
Отец, в синих галифе, в подтяжках поверх нижней рубашки, встал, отодвинул тарелку, покрутил телефон и, пока телефонистка соединяла, сказал:
— Летчиком будешь, а всякую контрреволюционную сволочь слушаешь. — И на землистом лице отца побелели скулы, как всегда белели при слове «контрреволюция».
Феликс крикнул во двор: «Взять!», и Полкан, добрая, ласковая дворняга, будто взбеленился. Яростно рвал в лохмотья грубошерстную сутану, по узловатым подагрическим ногам старика стекала в пыль кровь. Его окружили мальчишки и подняли свист, свистел и Феликс, но старик, с крестом в руках, был неподвижен, пока не приехал крытый фордик, вызванный отцом.
Двое в кожаных фуражках подсадили старика в кузов. Фордик выехал, а двор наполнился предсмертным собачьим визгом. Полкан переусердствовал и угодил под колесо.
— Это возмездие, — сказала бабушка.
Отец ухмыльнулся в тарелку и продолжал есть. Феликс знал, что ему тяжело. Что ж, он не должен был взрывать храм, когда стране нужны самолеты?
Каждое утро отец выходил из дома молчаливый, уверенный, зеркально начищенные сапоги обтягивали толстые икры, в руке желтый портфель, а в заднем кармане галифе сокровенная вещь — подаренный наркомом никелированный браунинг с серебряной монограммой на рифленой рукоятке, с ним отец не расставался даже ночью.
У подъезда его ожидал синий «линкольн», но отец, все так же глядя под ноги, указывал на них — пионеров, а сам садился в трамвай с народом, стоял, уступая место слабым и держась за ручку. «Линкольн» с никелированной собакой на радиаторной пробке отвозил ребят в школу, и они хором скандировали: «Боль-шо-е пи-о-нер-ское спа-си-бо!»
Позже, когда Феликс был курсантом летной школы и приезжал в отпуск, отец по ночам всякий раз, как под окном проходила машина, метался и стонал, водил во тьме револьвером и, когда звук мотора утихал, сникал, тайком доставал бутылку, и в темноте слышалось хлюпанье, запах водки и стук зубов о стакан. Отец — великий трезвенник — начал пить.
Лежа на траве и глядя в ущелье, Феликс вспомнил и тот последний день, когда ранним утром отец сходил в баню и, улыбающийся, с раскрасневшейся шеей, откровенно поставил бутылку «московской» на стол. Феликс тогда подумал, что у отца все хорошо, и облегченно вздохнул, а отец предложил:
— Выпьем за мать и за деда.
Феликс удивился, потому что знал от бабушки историю о том, как много лет назад отец с братом ночью забрались в храм, похитили серебро и спрятали в дедушкиной конюшне. Дед, невероятной силы ломовой извозчик, не пожелал ничего слышать об «экспроприации для блага народа», а снял с телеги барку, избил до полусмерти и проклял сыновей. Церковную утварь вернул в храм. И до конца дней замаливал грех. С тех пор дед и сыновья были врагами.
— Да-да, Феликс, выпьем за деда.
Они выпили. С отца сразу сошла деланная игривость. Он долго и мрачно глядел в пустую рюмку и с неожиданными для него мягкими, виноватыми нотками сказал:
— Феликс, сын мой, виноват я перед твоей матерью и перед дедом твоим, прости меня, сынок. — Он опять помолчал, по его мрачному мясистому лицу поползли слезы, но не слеза испугала Феликса, а то, что большая бритая голова отца стала тяжела для его могучей шеи и он с трудом держал ее, поминутно роняя то на грудь, то на плечи. Отец смахнул слезы и заговорил по-деловому, все так же роняя голову:
— Вчера вызвал меня сам начальник управления и говорит в пол, этак твердо: Волховстрою нужны плотники, приказываю доставить двадцать плотников. Если арестуешь девятнадцать, двадцатым пойдешь сам. Ты понял, Феликс? Разве можно невиновных? Это ж компрометация идеи. Контрреволюция… — На миг глаза отца вспыхнули, но тут же и потухли, и отец зашептал, заскороговорил, тихо, судорожно: — А я не могу. Я… я… могу одного… только одного плотника, девятнадцать не могу — одного хоть на десять лет, себя, понимаешь, себя, хоть в землю, себя, понимаешь, себя.
Голова не держалась, падала с плеча на плечо.
— Папа! — вскрикнул Феликс. Отец поднял голову, совладал, и тон его стал ледяным.
— Помни, Феликс, и не болтай, в наше время болтовня — это тюрьма. Война будет, конечно, с фашистами, я уверен в этом давно, потому и выучил тебя их языку. Так вот, чтоб я был спокоен, поклянись мне, что ты будешь драться за революцию, за свой народ до последнего и не продашь его, — он указал на портрет человека с трубкой, с хитрецой смотревшего на них.
Феликс поклялся. Отец обмяк, опять выпил и, уж вовсе не пытаясь поднять голову, подошел к портрету, малопонятно забормотал об измене, выкликая фамилии известных военачальников. Феликс вспомнил, как в комнату вошла бабушка, увидела водку и всплеснула руками: «О, Боже!» Отец хватил кулаком по столу, взревел:
— Бога нет! Раз и навсегда запомните! Бога нет! Нет! Нет! Это я доказываю всю жизнь!
Он тут же сник, вышел в другую комнату и, не сняв сапог, галифе, повалился на кровать, а вечером постучал в стену и, протянув Феликсу письмо, сказал, что завещает свой труп науке.
В ту ночь крытый фордик остановился под их окнами, он пофыркал мотором, а весь дом не спал, прислушивался: «За кем приехали». Шаги громкие, уверенные послышались на лестнице и затихли у их двери. И когда раздался стук, Феликс услышал последние слова отца: «Контрреволюция, измена… будьте прокляты!..» И тихо щелкнул выстрел. Новенький никелированный браунинг — подарок наркома — выстрелил лишь единожды — в затылок отца.
Утром доктор сказал:
— Профессиональный выстрел.
А друг отца — сипатый, приехавший с доктором, придавив к отверстию в горле серебряную пластину, прохрипел:
— Убийство! — И с нажимом: — Надеюсь, вы поняли, доктор?
— И много лет там, в вестибюле мединститута, покрытые пылью и паутиной останки отца излучают ауру смерти, а я все откладываю, все собираюсь, но никак не предам отца земле, и не будет мне покоя и умиротворения, но теперь я похороню, — слышишь, отец, — и земля примет тебя, — твердо сказал Феликс, и ему стало покойно и грустно-мечтательно.
Феликс покурил над ущельем, повспоминал, глядя на синие дымы и вдыхая запах печеного теста. Ему так захотелось парного молока с куличами, что он заспешил. Пошел по расщелине вдоль по ручью и, отыскав место поглубже, нагишом окунулся в горную прозрачную воду. Ледяная вода забила дух и будто ошпарила, но поцарапанные руки перестали саднить, и шея успокоилась. Накупавшись, выстирал джинсы, и глинистое кружево вспухло ниже по ручью. Изодранную куртку бросил на кусты шиповника, и она раскачивалась на цепких ветвях. Джинсы и кеды привязал к багажнику, чтоб на ветру быстрее высохли. Затем закурил, и наступила самая торжественная минута: он стал развязывать заветный тюк. Ну и букетище! — охнул он, отбрасывая голые лозы: их много настриг в темноте. Но все равно букет был великолепен. Сегодня я преподнесу его. Я долго ждал ее, она присутствовала в моих мечтах, а когда я потерял надежду — пришла реальная, дерзкая, золотоголовая, рассуждал он, разглядывая букет. И пусть только день я видел ее, и пусть она уйдет, но я буду помнить о ней, и она будет сиять среди прошлого, и с этого дня я буду смотреть только назад.

























