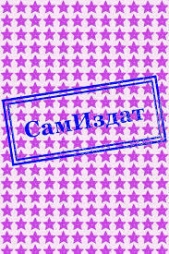Паломар
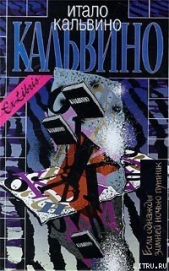
Паломар читать книгу онлайн
Повесть «Паломар»(1983), одна из самых сложных в творчестве писателя.
«На море зыбь, слабый прибой бьет в песчаный берег. Синьор Паломар стоит и смотрит на волну. Сказать, что поглощен он созерцаньем волн, нельзя. Не поглощен, поскольку хорошо осознает, что делает: хочет на волну смотреть — и смотрит. Не созерцает, ведь для этого нужны особенные темперамент, внутренний настрой, стечение внешних обстоятельств, и хотя он в принципе совсем не против созерцанья, ни одно из трех условий в данном случае не соблюдается. И наконец, смотреть он хочет не на волны, а только на одну: остерегаясь смутных ощущений, Паломар, что б он ни делал, привык определять себе конкретный ограниченный объект...»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«...Знает ветер и, конечно, море — водяная масса, поддерживающая твердые тела, которые покачиваются на ней, как я или доска», — решает Паломар, переворачиваясь на спину.
Теперь он созерцает блуждающие клубы облаков, клубящиеся чащами холмы. «Я» Паломара опрокинуто в стихии: в огненные небеса, подвижный воздух, воду-колыбель, опору-землю. Это, стало быть, и есть природа? Но всего, что видит он, в природе не бывает: солнце не заходит, море не такого цвета, а все формы таковы, какими проецирует их на сетчатку свет. Нелепо двигая конечностями, плавает он среди мнимостей; человеческие силуэты в странных позах, смещая свои центры тяжести и пользуясь не ветром, а геометрической абстракцией, углом меж направленьем ветра и наклоном рукотворного приспособления, скользят по гладкой коже моря. Стало быть, природы нет вообще?
«Я» синьора Паломара плавает в разъединенном мире — в пересечениях силовых полей и векторных диаграммах, в пучках прямых, сходящихся и, преломляясь, расходящихся. Но в глубине души его все по-другому, там комочком, сгустком, пробкой притаилось ощущение: ты здесь, однако же тебя могло бы тут не быть, ты в мире, коего могло бы не существовать, однако же он есть.
Безмятежность мира нарушает вдруг волна, рожденная моторной лодкой; вот она несется мимо, прыгая на плоском брюхе и разбрызгивая нефть. Переливчатая масляная пленка, колыхаясь, проникает вглубь; вещественность, которой не хватает бликам солнца, явно свойственна вот этим следам физического пребывания человека, оставляющего за собою вытекшее топливо, продукты сгорания, нерастворимые отходы, перемешивая жизнь и смерть и множа их вокруг себя.
«Здесь моя зона обитания, — размышляет Паломар, — и не имеет смысла думать, принимать все это или отвергать, ведь жить могу я только тут». Но вдруг судьба всего живого на земле предрешена? Что, если гонку к смерти не сдержать уже ничем?
Одиночный вал, рожденный лодкой, обрушивается на берег, и, когда вода отходит, там, где как будто ничего и не было, кроме песка и гальки, водорослей, крошечных ракушек, пляж пестрит теперь жестянками и косточками от плодов, презервативами и снулой рыбой, пластиковыми бутылками и шприцами, разбитыми сабо, похожим на черные веточки оливковым жмыхом...
Подхваченный волной от лодки и захлестнутый отходами, внезапно ощущает он и себя отбросами, трупом, прокатившимся по побережьям-свалкам континентов-кладбищ. Если бы вдруг на белом свете больше не открылся ни единый глаз, за исключением покойницких остекленелых, блестящая дорожка исчезла бы навсегда.
Впрочем, если вдуматься, это не ново: миллионы лет лучи ложились на воду еще до появления способных уловить их взглядов.
Паломар ныряет, проплывает под водой, выныривает — вот она! Так и появился некогда из моря тот, кто увидал это впервые, и ожидавшая его дорожка наконец смогла похвастаться своим искристым блеском и изящным тоненьким концом. Они, дорожка и созерцатель, были созданы друг для друга, и, может быть, не появление того, кто мог ее узреть, породило ее, а, наоборот, сама дорожка никак не могла без взгляда, озирающего всю ее с ее вершины.
Паломар пытается вообразить мир без себя — тот беспредельный, что существовал когда-то до его рождения, и тот гораздо более загадочный, что будет после его смерти, мир до появления глаз, до первого на свете глаза, и тот, который завтра в результате катастрофы или медленного разрушения ослепнет. Что же в этом мире происходит (произошло или произойдет)? Точно посланный солнцем луч отражается в спокойном море, играя на подрагивающей воде, и вот материя, воспринявшая свет, членится на живые ткани, и — впервые или вновь — вдруг расцветает око, множество очей...
Доски для скольжения все уже на берегу; последний из купальщиков, носящий имя Паломар, продрогнув, тоже выбирается на сушу, Проникшись верой, что дорожка без него не пропадет, он наконец-то вытирается махровой простыней и отправляется домой.
ПАЛОМАР В САДУ
Любовные игры черепах
Во дворике две черепахи, самка и самец. Бац! Бац! — стучат их панцири. Паломар украдкой наблюдает.
Самец со всех сторон подталкивает самку к краю тротуара. Та будто бы противится его наскокам, по крайней мере сохраняет неподвижность. Он меньше и активнее, наверное моложе. Много раз он подступается к ней сзади, но панцирь там крутой, и он соскальзывает вниз.
Вот наконец ему, должно быть, удалось устроиться как следует: он делает ритмичные толчки, сопровождаемые шумным выдохом, почти что криком. Самкины передние конечности распластаны, и зад от этого приподнят. Самец трясет над нею лапами, вытягивает шею, тянется вперед раскрытым ртом. За панцирь, как ни бейся, не ухватишься; впрочем, такие лапы не способны уцепиться ни за что.
Но вот она пустилась прочь, самец за ней. Нельзя сказать, чтобы она была проворней или же полна решимости удрать. Он, дабы удержать ее, покусывает иногда одну из ее лап; она не протестует. Стоит ей остановиться, он пытается ее покрыть, однако она делает шажок, и он, свалившись, ударяется о землю члеником — довольно длинным, крючковидным; кажется, таким он сможет до нее добраться даже несмотря на толщину их панцирей и неудачную позицию. Поэтому неясно, сколько из подобных натисков закончится успехом, сколько — неудачей, сколько просто-напросто игра, спектакль.
Лето, дворик гол, только в углу зеленеет куст жасмина. Ухаживание состоит в неоднократном огибании лужайки с преследованием, бегствами и стычками — не лапами, а панцирями, глуховато ударяющимися друг о друга. Самка силится протиснуться между ветвей жасмина. Она уверена, — а может, хочет убедить, — что прячется; на самом деле нет вернее способа быть пойманной самцом и не иметь надежды на побег. Теперь он мог бы должным образом ввести свой член, но оба замерли и звуков никаких не издают.
Что ощущают, спариваясь, черепахи, синьору Паломару невдомек. Он следит за ними с бесстрастным интересом, будто за двумя машинами, двумя запрограммированными на случку электронными животными. Что может представлять собою эрос, если вместо кожи — покров из костяных пластин и роговых чешуек? Но ведь то, что мы обозначаем этим словом, тоже есть программа наших тел, — программа большей сложности, поскольку наша память собирает все сигналы, приходящие от каждой клетки кожи, каждой из молекул наших тканей, и умножает их, соединяя с импульсами, посылаемыми зрением и порожденными воображением. Различно лишь число каналов: от человеческих рецепторов отходят миллиарды нитей, связанных с компьютером, который управляет чувствами, взаимоотношениями, узами между людьми... Эрос есть не что иное, как программа, выполняемая хитроумной электроникой ума, но ум — это еще и кожа, к которой прикасаешься, разглядываешь, вспоминаешь. А как же черепахи в их бесчувственных футлярах? Может, недостаток стимулов их органов чувств вынуждает напряженно и сосредоточенно работать умы, что позволяет им до тонкостей познать себя... Может быть, их эросом управляют абсолютные духовные законы, между тем как мы все — пленники загадочного механизма, способного внезапно засориться, отказать, переключиться в бесконтрольный автоматический режим...
Может, сами черепахи понимают себя лучше? Минут примерно через десять панцири их разделяются. Самка, а за ней самец опять пускаются вокруг газона. Он держится теперь чуть дальше, временами шлепает ее по панцирю, налегает на нее слегка, не слишком-то уверенно. Они опять оказываются под жасмином. Он покусывает ее лапу — в том же самом месте.
Посвист дрозда
Синьору Паломару повезло: в краю, где он проводит лето, много птиц. Пока, устроившись в шезлонге, он «работает» (на самом деле повезло ему и в том, что он «работает» в таких местах и позах, которые скорее вызывают мысль о полном расслаблении; вернее, ему выпало несчастье чувствовать себя не вправе не работать даже августовским утром, растянувшись под деревьями в шезлонге), скрытые листвою птицы демонстрируют свой разнообразный репертуар, так что Паломар находится в прерывистом, сумбурном, колком акустическом пространстве, где звуки, между тем, пребывают в равновесии, не выделяются ни громкостью, ни частотой, их сплетение образует однородную материю, целостность которой обуславливает не гармония, а легкость и прозрачность, пока в разгар жары в воздухе единовластно не воцаряются цикады, методично наполняющие время и пространство непрестанным грохотом.