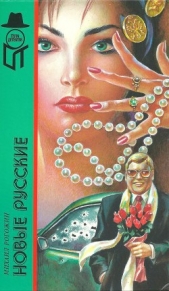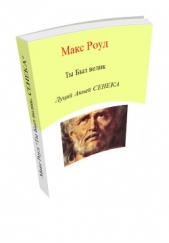Машинка и Велик или Упрощение Дублина (gaga saga) (журнальный вариант)
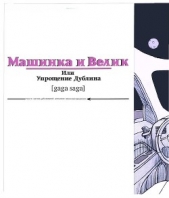
Машинка и Велик или Упрощение Дублина (gaga saga) (журнальный вариант) читать книгу онлайн
«Машинка и Велик» — роман-история, в котором комический взгляд на вещи стремительно оборачивается космическим. Спуск на дно пропасти, где слепыми ископаемыми чудищами шевелятся фундаментальные вопросы бытия, осуществляется здесь на легком маневренном транспорте с неизвестным источником энергии. Противоположности составляют безоговорочное единство: детективная интрига, приводящая в движение сюжет, намертво сплавлена с религиозной мистикой, а гротеск и довольно рискованный юмор — с искренним лирическим месседжем. Старые и новые русские образы, кружащиеся в разноцветном хороводе, обретают убедительность 3D-кадра, оставаясь при этом первозданно утрированными и диспропорциональными, как на иконе или детском рисунке. Идея спасения, которая оказывается здесь ключевой, рассматривается сразу в нескольких ракурсах — метафизическом, этическом, психоделическом, социальном. «Машинку и Велика» невозможно классифицировать в принятых ныне жанровых терминах. Ясно лишь, что это — тот редкий и вечно необходимый тип литературы, где жизнь алхимически претворяется в миф, намекая тем самым на возможность обратного превращения. Перед вами новое произведение загадочного Натана Дубовицкого, автора романа «Околоноля». Это не просто книга, это самый настоящий и первый в России вики-роман, написанный в Интернете Дубовицким вместе с его читателями, ставшими полноценными соавторами. «Машинка и Велик (gaga saga)» — книга необычная, ни на что не похожая. Прочтите — и убедитесь в этом сами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А? — не отставал Аркадий.
— Ну выгнали, — сознался Колька.
— За пьянку?
— Нет.
— А?
— За… ну… спёр я там… софит… у них…
— Софит? Зачем?
— За красоту. Красивый, сука, был. Горит, бывало, светит, ну прям солнце. Не удержался. До сих пор храню. Дома лежит. Включаю по праздникам. Приглашаю посмотреть. Не пожалеете.
— Ну, Колька, ты неправ. Ограбил человека, да на него же и злишься и клевещешь. Пей за это штрафную, — засмеялся Аркадий и торжественно возгласил: — Капитан Арктика, мореход и мастер церемоний, защитник слабых и податель помощи гибнущим — полностью оправдан и реабилитирован. За это надо выпить. Ура!
— Ура! — закричали все, не исключая и Кольки, расплакавшегося опять, кающегося.


§ 17
Раскалённый спором Аркаша расстегнул сорочку донизу. На груди его объявилась татуировка, мастерски исполненная в лучших традициях фресковой живописи. Охра, умбра, марс, кобальт, голубец, киноварь. 20 смх20 см. Изображалось чудо св. Георгия о змие, но, кажется, с изменённым и отчасти несчастливым концом. По замыслу неизвестного автора выходил конфуз, дракон явно легендарного воина одолевал и доедал его вместе с конём. Из пасти торжествующей крылатой рептилии торчали огрызок копья, огузок и последнее копыто коня, надкушенные нимб и лик великого подвижника. Он как бы говорил «извиняйте» растерянной неподалёку дочери правителя Гебала, которая как бы отвечала «ничего, бывает…»
— Зачем это? Это нехорошо, застегнись, — попросил Глеб Глебович, смущённый кощунственным сюжетом наколки.
— Ошибки молодости, — застегнулся Аркадий. — Знаю, что зря, но теперь не выведешь. Да и красиво, согласитесь. Это не хохлома какая-нибудь — тут искусство, ферапонтовская школа, вершина православного дизайна. Мастер один известный делал, реставратор.
— Ты на бога за что-то в обиде, сынок? — печально предположил Глеб.
— Да нет, чего на него обижаться, он мне всё дал.
— Взаймы, — сказал Грузовик.
— Что взаймы? — спросил Аркадий.
— Всё. Бог ничего так не даёт. Всё взаймы. Потом обратно забирает.
— Ты, Коля, часом не Екклезиаст? — скривился Аркадий.
— Нет, я в ГИТИСе учился.
— На грузчика?
— На критика.
— Вот как. А что ж по специальности не работаешь? Зачёт по злобе и зависти не сдал?
— Ты хоть и издеваешься, но мысль глубокую высказал. Я всё думал… почему… я не за пазухой… а под каблуком у Христа… притих. Думал, думал, а ты ответил, надо же, — после паузы восхитился Колька.
— Что мы всё, ребята, про Христа, Екклезиаста, про Георгия Победоносца, про капитана Арктика? Всё всуе как-то, как-то не так, как надо бы. Они же бох, а мы как блогеры о них болтаем, глупо, злобно, торопливо, не так, не так, — поморщился Глеб Глебович.
— Может, и глупо, но не злобно, просто с юмором, — возразил Аркадий. — Да и вам-то, учёному, что за дело до бога-то этого и до всех его эманаций и воплощений? Бох ведь штука антинаучная.
— Бох не штука. Не так, не так. Ньютон в бога веровал. И Эйнштейн; не тот, который, как я, твой вероятный отец, а другой, настоящий. И Хокинг до сих пор его по вселенной ищет, — Дублин-ст. открыл последнюю бутылку. — Наука не от отрицания бога возникла, а от веры в него. От веры в единый всеобщий закон, а это ведь бох и есть.
— Вот как, — подставил рюмку Аркадий. — Всемирный закон тяготения, второй закон термодинамики, закон бутерброда… — кто же из них бох?
— Не так, не так… Закон законов. Всеобщий. Простой и ясный. Он ещё не сформулирован. Я работаю…
— Дерзко! — оценил Колька.
— …Разрабатываю метод симплификации. Упрощения то есть. Математический язык усложнился до такой степени, что на нём нельзя сказать ничего понятного и полезного, — несколько лихорадочно зашептал Глеб. — Сложность помогла нам добраться до вершины. Но теперь она мешает нам видеть, что вокруг. Нынешняя наука — как строительные леса, надо её разобрать, чтобы понять, что построено. А то уже она становится самоцелью. Как если бы архитектура и строительное дело служили бы только возведению лесов — всё более затейливых, надёжных, красивых. И все бы строили леса, а не здания.
Мой метод упрощения математического языка призван выявить, что выношено сложностью, что созрело в её путанице. Как выглядит вершина, куда мы взошли, и какой вид с неё открывается.
— Вокруг чего настроены леса, — понял Колька.
— Верно. Найти понятную всем формулу, в которой будет всё, ради чего было всё, что было. Общий знаменатель. Единый закон, — подтвердил математик.
— Ну и что там просматривается, за лесами? — полюбопытствовал Аркадий.
— Не торговый ли центр? — спросил Колька. — Не яма ли?
— Не так, не так. В том-то и дело, что… хотя расчёты ещё не завершены… но там что-то такое… божественное… должно быть…
— Значит, всё будет хорошо? — спросил Велик.
— Конечно, — ответил за отца Аркадий. — Под такую крупную тему предлагаю по стакану. Не по рюмке, а именно по стакану, нечего тут мельчить. Есть стаканы-то? Чайные кружки? Ещё лучше. Подойдут. Спасибо, Велик. Наливай, Глеб Глебович, по полной. До дна. За бога. Чтоб был здоров и всё чтоб у него было хорошо.
— Не так, не так, — качал головой Глеб, но пил, однако, до дна.


§ 18
Потом Велик уснул; Дублин-ст. сыграл на бубне что-то из Шуберта; Колька поплакал по конченному коньяку, вызвался было сбегать за новым, был решительно остановлен неожиданно трезвым рассуждением Быкова-Бутберга о том, что «так не остановимся до утра и к рассвету всё подчистую пропьём, на Буайан не останется», поплакал тогда ещё, теперь уже без повода, и ушёл спать к себе на склад; Аркадий попел немного под папин бубен, поплясал под собственное пение, поотпрашивался в гостиницу, но был отговорен Глебом и ненадолго проснувшимся Великом и оставлен ночевать на Заднезаводской. Лёг на полу в комнате, умиротворённый, усыновлённый, уставший доброй усталостью осчастливившего всех волшебника.
Старший Дублин засыпал трудно, бурно, всё думал разболевшимся от радости и благодарности лбом о Доре Бутберг, пославшей ему доброго ангела Аркадия с коньяком и деньгами. И минувший четверг, начинавшийся так страшно в безнадёжной бездне безденежья и жажды, оказался вдруг на высоте, с которой видны были путеводные звёзды и попутные ветры.
Младшему снилось, будто он, эсквайр, сэр, мистер, директор, — ходит с важным лицом по десятиэтажному магазину биониклов на Стренде в таком же, как у Аркадия, модном галстуке, с таким же, как у Аркадия, быстрым и насмешливым взглядом.
По улице осторожно, никого не разбудив, оставшись незамеченным, прошёл не по-зимнему нежный дождик. Как все январские дожди, порой проливающиеся в наши суровые зимы, как всё не в своё время случившееся, он был недолог, неловок и бесплоден. Едва явившись, тут же отступил вместе с минутной ночной оттепелью. Словно неуместные слёзы, подкатившие было к глазам в самый важный момент какой-нибудь большой борьбы, в двух шагах от победы, когда все глядят на героя, ожидая и требуя твёрдости, решимости, грозы; а герой в ужасе чувствует жжение под веками, в горле ком, слабость в мышцах и в мыслях нежность; он бы рад уже отречься от борьбы и победы, расплакаться как мальчик, сбежать и спрятаться, но толпа требует бури, знакомые дамы готовятся аплодировать; и вот — герой напрягся, и слёзы, сверкнувшие было возле зрачков, схлынули, силы вернулись, снова пришёл успех. Но невнимательно выслушал герой привычные овации, рассеянно жал руки пришедшим поздравить и еле дождался окончания празднеств. Как только разбрелась ликующая толпа, бросился куда-то в погреб, забился в самый безлюдный угол дома и, обратив очи внутрь, прямо в душу, взялся рассматривать место, откуда сочились слёзы и слабость. Увидел, что душа его полузадушена запущенным, неизлечимым уже отчаянием, что она от болезни этой отёчна, сыра и дрябла. Понял, что поправить ничего уже нельзя, можно только доигрывать роль героя в ожидании разоблачения и позора, слушая, как тает ледяная воля, претворяясь в пресные слёзы, непрошенные, нелепые, как дождь в январе.