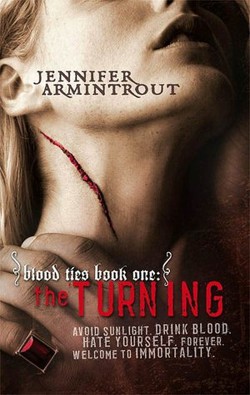Песни пьющих

Песни пьющих читать книгу онлайн
Ежи Пильх (p. 1952) — один из самых популярных современных польских писателей автор книг «Список блудниц» (Spis cudzo?oznic, 1993), «Монолог из норы» (Monolog z lisiej jamy, 1996), «Тысяча спокойных городов» (Tysi?c spokojnych miast,1997), «Безвозвратно утраченная леворукость» (Bezpowrotnie utracona lewor?czno??, 1998), а также нескольких сборников фельетонов и эссе. За роман «Песни пьющих» (Pod mocnym anio?em, 2000) Ежи Пильх удостоен самой престижной польской литературной премии «Ника».
«Песни пьющих» — печальная и смешная, достоверно-реалистическая и одновременно гротескно-абсурдная исповедь горького пьяницы писателя Ежи П. Жизнь героя-автора и его сотоварищей, одолеваемых зеленым змием, поделена на неравные отрезки: пребывание дома, где они, большей частью безуспешно, пытаются вести нормальное, «трезвое» существование, и в клинике, где их лечат от алкоголизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Меня так и подмывало высокомерно и вопреки очевидному заявить, что урологические советы и литература — не одно и то же, но я придержал язык: нельзя ни в праведном пылу полемики, ни в защиту своего ремесла, ни даже в собственную защиту говорить неправду; урологические советы, вполне возможно, — настоящая литература.
Кроме того, Кася отчасти была права: я уже не хотел быть только писателем, мне теперь хотелось одного — быть с тобой. Но, поскольку ни Кася, ни психотерапевт Моисей, он же Я, Спиритус, ни доктор Гранада, ни сам Господь Бог не порекомендовали мне сделать выбор между тобой и литературой, я продолжаю писать, хотя с некоторых пор в тайне ото всех. Если же устами ординаторши Каси со мной говорил Господь Бог и если это Он предложил мне на выбор пьянство или литературу — или лечиться от пьянства, или писать книгу, — то я, конечно, благодарю Его покорно, однако не могу не сказать: слишком хрупкую посланницу Ты выбрал. Господи, слишком хрупкую для такого закоренелого пропойцы, каким я был.
Ординаторша Кася сверлила меня взглядом, но я перед ее взглядом устоял; мало-помалу она заметно начала расслабляться, я тоже расслаблялся, но незаметно (хотя должно было быть наоборот). Я поднял голову, она опустила голову и сказала тишайшим голосом:
— Так или иначе, никто — ни я, ни кто-либо другой — и не подумает проверять твои рукописи.
Вот уж чего не стоило опасаться! Если эскадрон ординаторш и переворачивал вверх дном тумбочку делиранта, то исключительно с целью обнаружить спирт в тюбике от зубной пасты, горькую желудочную в пузырьке из-под шампуня, реланиум под стелькой в туфле. Антиалкогольные книжки и брошюры, опросные листы, сочинения на заданную тему, исповеди и дневники чувств порхали в воздухе: пожухшие, дочиста отдраенные от следов спиртного манускрипты делирантов никого не интересовали. Однако сам факт, что вообще кто-то смеет говорить о проверке моих бумаг (или даже о нежелании их проверять), естественно, крайне меня возмутил, и я решил писать скрытно.
Когда же в ходе лекции-беседы на тему «Как я объяснял и оправдывал свое пьянство» одна из ординаторш (неважно, кто именно) вырвала у меня тетрадь и принялась перерывать взглядом то, что там было написано, я решил — на всякий случай — полностью уйти в подполье. И так в этом деле, несмотря на его обременительность, поднаторел, что конспирация приобрела характер поистине творческий.
Я встаю в четыре утра, над садами психов курится туман, я втихаря прокрадываюсь в тихую комнату и втихаря пишу. В воскресенье с готовым сочинением в кармане я жду у ворот больницы. Около одиннадцати ты бежишь по перрону, мы идем по нашей тропке, садимся на каменную скамью над Утратой. В конце дня ты преспокойно проносишь очередную главу мимо охраны у ворот. Вскакиваешь в пригородную электричку, доезжаешь до Центрального вокзала, там у тебя пересадка на экспресс «Интерсити», там ты уже в безопасности. (Несколько лет, а может, несколько месяцев назад — я почти угадал — ты была в трехстах километрах отсюда.) Сейчас уже вечер, корпус, где обретаются делиранты, окутан темнотой. Я сижу на койке в своей палате на пятерых и читаю твои письма. Ты сидишь в купе, и — если бы не то, что ты очень близко, — я бы, расчувствовавшись, сказал: ты все дальше и дальше… Но стоп: она есть. Она сидит у окна, смотрит на уходящие в никуда плоские равнины, расправляет на коленях (летние зеленые брюки почти совсем высохли) листки скверной бумаги в клеточку и читает, легко разбирая корявый почерк: «Дрожь зигзагами пробегает по нашим телам, мы сидим на каменной скамье над Утратой, я говорю: мельница на Утрате, ты говоришь: мельница на Лютыни…»
24. Неописанный побег Шимона
Ночь завладела отделением для делирантов, разгромленная армия полегла, коридор освещен единственной лампочкой, все спят. (Хотя один не спит, ему видится за туманом свобода.) Шимон Сама Доброта, стряхнув остатки неглубокого чуткого сна, встает, вытаскивает из-под кровати брезентовый мешок и бесшумно, чтобы не разбудить спящего соседа, начинает собирать вещи. Шимон Сама Доброта не любит своего спящего соседа, но борется с этим чувством, без устали повторяет: возлюби врага своего, без устали напоминает себе правила Общества анонимных алкоголиков, однако враждебность не покидает его души. Спящий сосед храпит, и Шимон по ночам не может спать. Спящий сосед взял у Шимона взаймы десять злотых, и Шимон знает, что никогда больше этих денег не увидит, хотя именно сейчас, когда он решил бежать, деньги ему позарез нужны. Спящий сосед без спроса берет Шимонову зажигалку и авторучку, и Шимон не находит в себе сил сделать ему замечание. А тот без стеснения поучает Шимона, чтобы закрывал шкаф и тщательнее подметал пол в палате, когда его черед. В таких случаях враждебность не только у Шимона в душе, в таких случаях сам он, все его существо — враждебность.
— Что такое враждебность? — вопросил на одной из лекций психотерапевт Моисей, он же Я, Спиритус. — Что такое враждебность? — повторил он еще раз, когда же молчание в аудитории невыносимо затянулось, сформулировал, а затем продиктовал осовелым делирантам определение враждебности.
«Враждебность это, — дружно и вяло записывала еле живая армия, — враждебность это ярость, — писал вместе со всеми Шимон Сама Доброта, — враждебность это ярость, направленная против кого-либо или чего-либо». Шимон перечитал записанную в толстую общую тетрадь формулировку, мысли его прояснились, и он ощутил тревогу. По мнению Шимона — сумей он свое мнение высказать, — чрезмерное просветление мозгов доводит до ручки. Постичь что-то до конца — значит, ничего больше не иметь в запасе, а если у человека нет ничего в запасе, ему становится не по себе: человек чувствует себя так, будто у него кончились сигареты. Не «человек», а «я, Шимон». Не «я, Шимон», а «я, Ежик». И не «становится не по себе», а «тянет выпить»…
Неужели эта задрыга Кася-ординаторша права? Неужели мне действительно расхотелось писать о пьянстве? А может, мне расхотелось писать, потому что расхотелось пить? Я писал, и получалось вроде как сражение с самим собой: то ли писать о пьянстве, то ли с пьянством завязывать; не знаю, проиграл я в этом сражении или выиграл. А может быть, со мной произошло то же, что с Марселем Прустом? Pourquoi pas? Why not? Warum nicht? [15] У Марселя Пруста (это мне запомнилось из лекции Яна Блонского [16], услышанной двадцать восемь лет назад) утраченное время героя — время, обретенное рассказчиком. У меня почти та же ситуация: я, рассказчик Ежик, не только обретаю утраченное время своего героя Алкаша, но и нахожу то, что он с самого начала тщетно искал. Попутно я обретаю разбазаренное и пропитое время других персонажей. Между мной и моими героями разница порой очень невелика. (Никаких противоречий с другими местами поэмы.) Между мной и мной тоже различия ерундовые, возможно даже, все ровно наоборот: Алкаш — рассказчик, а Ежик тщетно ищет предсмертную любовь, и в результате они легко подменяют друг друга.
Иными словами, не Дон Жуан Лопатка, а Я, Дон Жуан Лопатка. Не доктор Гранада, а Я, доктор Гранада. Не сестра Виола, а Я, сестра Виола. Und so weiter. Я не говорю на иностранных языках, но ординаторши оказывают на меня такое мощное воздействие, что иногда мне кажется: вот-вот заговорю. Мой усыпленный в детстве немецкий проснется, на своем школьном русском я начну бегло говорить и писать, про свой, так толком и не выученный английский с полным правом смогу сказать: very fluently [17]. Когда делиранты вдруг начинают шпарить на чужих языках, никто не удивляется — у нас в отделении и не такое бывает.
Шимон Сама Доброта оглядывает физиономии собравшихся в аудитории соратников и видит, что за неделю, три недели, месяц физиономии эти облагородились, отечность спала, носы побледнели, в глазах появился блеск. Ударник Социалистического Труда, например, изменился до неузнаваемости. Еще недавно рожа у него была раздута, как футбольный мяч, седые патлы всклокочены, одежда в беспорядке, руки тряслись. А как он выглядит сейчас? Худощавое загорелое мужественное лицо, буйная седая шевелюра, элегантная фланелевая рубашка в красно-черную клетку, рука крепко и уверенно держит кружку с ячменным кофе. Ударник Социалистического Труда сейчас выглядит как старший брат Клинта Иствуда.